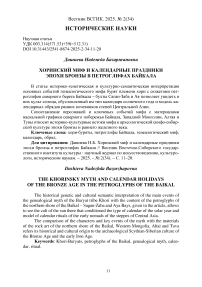Хоринский миф и календарные праздники эпохи бронзы в петроглифах Байкала
Автор: Дашиева Н.Б.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 (34), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье историко-генетическая и культурно-семантическая интерпретация основных событий генеалогического мифа бурят племени хори с сюжетами петроглифов северного берега Байкала – бухты Саган-Заба и Ая позволяет увидеть в них культ солнца, обусловленный им тип календаря солнечного года и модель календарных обрядов ранних кочевников степей Центральной Азии. Сопоставление персонажей и ключевых событий мифа с материалами наскальной графики северного побережья Байкала, Западной Монголии, Алтая и Тувы относит историко-культурные истоки мифа к археологической скифосибирской культуре эпохи бронзы и раннего железного века.
Хори-буряты, петроглифы Байкала, генеалогический миф, календарь, обряд
Короткий адрес: https://sciup.org/170209452
IDR: 170209452 | УДК: 003.314(571.53)+39(=512.31) | DOI: 10.31443/2541-8874-2025-2-34-11-20
Текст научной статьи Хоринский миф и календарные праздники эпохи бронзы в петроглифах Байкала
В бурятоведении миф, повествующий о происхождении самого многочисленного подразделения в составе всего этноса - племени хори от брака молодого охотника и небесной девы-лебеди, используется в качестве исторического источника. Исследователи в его сюжете видят отражение вопросов начального этапа истории племени, сведения об изначальной территории, с которой связаны его этнокультурные истоки, возможность выявления через образы мифологических прародителей исторических этнических общностей, участвовавших в его этногенезе.
В различных вариантах племенного мифа местом встречи его прародителей указываются разные территории. Согласно одному из наиболее распространенных сюжетов хо-ринского мифа, молодой охотник Хоредой, живший на о-ве Ольхон, увидел спустившихся на берег Байкала трех лебедей. Птицы, сняв свои лебяжьи одежды и превратившись в трех прекрасных девушек, стали купаться в озере. Юноша, пленившись их красотой, взял украдкой одежду и украшения одной из них. Когда девушки вышли из воды, то две, надев свои лебяжьи оперения, вновь превратились в птиц и улетели. Одна же, не найдя своих птичьих принадлежностей, осталась на земле и вышла замуж за Хоредоя. У них родились одиннадцать сыновей, ставших отцами-основателями одиннадцати хоринских родов.
Хоредой и его жена состарились. Однажды жена сказала мужу:
«Я стала старой, родила одиннадцать детей и сейчас куда уйду от них. Отдай мою прежнюю одежду и украшения, перед смертью хочу покрасоваться». Старик, подумав, исполнил ее просьбу, старуха же, надев свою девичью одежду и украшения, превратилась в лебедя и, облетев стены юрты изнутри по кругу, взлетела вверх к дымоходу. Старик попытался поймать ее за ноги, но неудачно. Хоринские буряты считают, что их предок лебедь, береза - коновязь. Соблюдая старинные обычаи, брызгают молочной водкой в момент прилета и отлета лебедей [7, с. 103-104].
Вариант этой легенды был записан Г. Р. Галдановой во время полевых этнографических исследований, проведенных среди бурят Баргузин-ской долины Республики Бурятия. По рассказам проживающих здесь представителей хоринского рода галзут одна из девяти небесных дев-лебедей становится женой Хоредоя. У них появляются дети. Когда они подросли, жена-лебедь сказала: «Человек Неба должен жить на небе, человек Земли - на земле», и, превратившись в лебедя, вылетела через дымник юрты. Но в какое-то мгновение муж успел дотронуться до ее лапок, поэтому оскверненная прикосновением человека Земли, лебедь не смогла вернуться на небо. Так и осталась птицей. С тех пор, пролетая над человеком, лебедь обязательно кричит «Мэндээ», как бы приветствуя, спрашивая «Здоровы ли вы?». И люди, увидев лебедей, тоже должны были крикнуть в ответ
«Мэндээ». Считали, что лебеди разговаривают также как люди, поэтому говорили: «Лебеди, переговариваясь (перекликаясь), отправились на юг» ( Сагаан шубуун угэлэл-дэжэ уригшаа явба ). Осенью, когда птицы улетали в теплые края, люди кропили им вслед молоком, желали им счастливой дороги и просили оставить им «благодать», «счастье» ( хэшэг ), чтобы счастливо жить до будущей весны, до возвращения птиц. «Весной их встречали также молочной пищей ( урмэ, хурууд ба-риад ). При кроплении молоком бар-гузинские галзуты говорили: «Происхождение наше от птицы лебедь, род наш - хори-монгол, коновязь наша - береза» ( Хун шубуун гарбал-най, хори-монгол удхамнай, хукан модон - сэргэмнэй ) [4, с. 35].
Сюжет мифа хори-бурят являет собой драматургическую основу календарного праздника эпохи бронзы, иллюстрацию которого можно видеть в петроглифах бухты Ая и Саган-Заба (Белая Скала) на северном берегу Байкала, представленных в книге А. П. Окладникова «Петроглифы Байкала - памятники древней культуры народов Сибири» [9, с. 10-31, 32-39]. Автор указывает, что впервые они были описаны и зарисованы Н. Н. Агапитовым в 1881 г., который выделил на поверхности скалы пять отдельных групп, представляющих собой «довольно цельную картину из жизни народа, оставившего себе такую память» [Там же, с. 11]. Выделив среди петроглифов бухты Саган-Заба изображения оленей в позе с подогнутыми ногами и широко раскинутыми на голове рогами, А. П. Окладников видит в них сходство с оленями на бронзе тагарской культуры и отчасти с фигурами благородных оленей на оленных камнях Забайкалья. Рисунки датируются «половиной I тыс. до н. э.» [9, с. 77]. Происхождение элементов «звериного стиля» автор соотносит с населением плиточных могил, проникших на остров Ольхон и северный берег Байкала из степей Забайкалья и Монголии [Там же, с. 77, 111-112].
В группе рисунков с оленями, выполненных в канонической скифо-сибирской традиции, находятся семь фигур птиц, похожих на гусей или лебедей, расположенных вертикально одна над другой [Там же, с. 29, 136-137; табл. 11-12]. В изображениях лебедей исследователь обнаруживает «перекличку» с образом лебедя в мифе хоринцев о Хоридое или Хоридой-мэргэне, сочетавшемся браком на берегу Байкала с небесной девой-лебедем. В книге приводятся несколько вариантов хорин-ского мифа-легенды [Там же, с. 29, 88-91]. В наши дни эти рисунки почитаются бурятами-шаманистами как вместилище небесных божеств и духов. Ежегодно население окрестных сел организует здесь родовые сезонные праздники с ритуалами жертвоприношений писаной скале молочной пищи и домашних животных, известные под названием тай-лган .
Последовательное сопоставление событий, составляющих сюжет хоринского мифа с петроглифами Саган-Заба и календарными традициями исторических ираноязычных и тюрко-монгольских народов Центральной Азии и местного бурятского населения конца XIX - начала ХХ в., выявляет ряд совпадений в их содержании. Так, сопряженность идеи начала нового года, семантически соотнесенного в хоринском мифе с мотивом «брак отца-основателя и матери-прародительницы племени», перекликается с рисунком, который А. П. Окладников назвал «изображение коитуса» [9, с. 26], отражение «культа плодородия, воспроизводства человеческого рода» [Там же, с. 85].
Рисунок демонстритует тесную связь с ритуальными действами календарных праздников монголоязычных сяньби (хоров). О них китайский источник «Вэйшу» сообщает: «В последнем весеннем месяце собираются при реке Жао-лэ (Шара-Мурень); и когда кончается пиршество, то соединяются браком.
Подобные праздники известны у хунну под названием сюй» (цит. по: [3, с. 142]). Более полные сведения о празднике хунну, изложенные в «Ши цзи» и «Хань шу», приводятся в статье японского исследователя Ямада: «В первом весеннем месяце каждого года все лидеры приводят малое религиозное сборище в месте, находящемся от ставки шаньюя. Затем в мае они проводят большое собрание в лунчэне, чтобы вознести молитвы предкам, небе и земле, духам людей и небес. Осенью, в период, когда лошади нагуливают вес, они снова проводят большое сборище и обходят вокруг деревьев. [В это же время] проводят перепись людей и скота» [13, с. 275]. Далее автор со ссылкой на детальный анализ и интерпретацию вышеприведенного отрывка профессором Намио Эгами поясняет «лунчэн - это деревья в лесах или ветви деревьев, воткнутые в землю, нечто подобное современному обо. Профессор Эга-ми утверждает, что это описание религиозной церемонии, в которой люди ходили по кругу вокруг алтаря из деревьев, типичного шаманского обычая у народов Северной Азии. Месяцы май и сентябрь (осень) являются временами года, когда трава для пастбищ начинает зеленеть после зимы и когда трава вянет с приближением зимы. Это времена года, соответствующие самым важным периодам в годовом цикле производственной деятельности для номадов азиатской степи» [Там же, с. 276]. В празднике участвовали только члены кланов, «принадлежавших к этому же племени. Члены других племен не участвовали в данных собраниях. Это событие было частью наследственной традиции хунну и важной общественной и религиозной церемонией в племени.
.Праздник, в конечном счете, имел целью служить сохранению единства племени» [Там же, с. 276].
Приведенные материалы полностью соответствуют описанию обрядово-ритуальных действ сезонных праздников тайлган , проводимых бурятами-шаманистами Предбайка-лья в конце XIX - начале ХХ в. Каждый бурятский род имел свое место проведения тайлгана. Площадка для проведения праздника представляет ее как сакральный центр рода, племени. Пройдя в центр, все семьи рассаживались в один ряд и втыкали перед собой ветку березы - туургэ .
Функционально ветка- туургэ каждой семьи, символизируя мировую вертикаль, соединяла верх и низ, проход через прошлое и будущее пространственно-временного континуума, служила связующим звеном между духами семейно-родовых предков и живущими в настоящем их потомками.
На южной части праздничной площадки в качестве «больших жер-твенников/алтарей» ( ехэ ширээ ) выступали вкопанные комлем в землю три высокие березы. Другое их название туургэ восходит к корню тур/тор , от которого у народов алтайской языковой семьи образуются слова со значением «мировое древо/ мировая вертикаль, мир в его целостности». Представлялось, что в ходе обрядово-ритуальных действ на них «спускались» призываемые божества и через них передавались предназначенные им жертвы. По окончании обрядово-ритуальных действ все его участники совершали вокруг них троекратный обход [6, с. 37].
В сцене, названной А. П. Окладниковым как «коитус», короткие рожки на голове одной из двух фигур указывают на связь его образа с многочисленными антропоморфными мужскими фигурами, изображенными с ромбовидными ногами на петроглифах Саган-Заба. Имеющийся в руках такой фигуры какой-то стержень, напоминающий боевой топор или секиру [9, с. 26, 72], позволяет сопоставлять их с образами индоевропейских по истокам светлых солнечных божеств эпохи брон- зы с функциями громовников. В шаманизме бурят Приольхонья преемственность с их образами можно видеть в молитвенной просьбе шаманов, обращенной к духу-хозяину бухты Саган-Заба «спуститься молнией», стать бурханом с престолом между гор [9, с. 19].
Хромота как отличительный признак образа воина с топором, изображенного с ромбовидными ногами на петроглифах Монголии, Тувы и северного берега Байкала, датированных эпохой бронзы, с мотивом «брак» до недавней этнографической действительности бытовала в традиционной культуре тувинцев. По сообщению Л. П. Потапова, у тувинцев бассейна р. Хемчик на второй день свадебного обряда: «Старший родственник невестки брал ее за кушак, выводил из юрты и, прихрамывая на одну ногу и опираясь на топор, подводил ее к дверям юрты родителей мужа, где в это время собирались его старшие родственники» [11, с. 253].
В описании обряда, имевшего распространение в Тапсы-Аксы (верховья Алаша), автор указывает: «Невестку (или молодуху) вел ее наиболее бойкий родственник, обязательно мужчина. Ведя невестку, он нарочно прихрамывал и опирался на топор ...» [Там же, с. 255].
В свадебном обряде тувинцев родственник со стороны невесты наделялся ритуальной хромотой, посредством которой, по всей вероятности, передавалась идея преемственности в линии «предки - потомки» с образами мужских фигур на оленных камнях Монголии, пет- роглифах эпохи бронзы бухты Саган-Заба на северном берегу Байкала, изображенных с искривленными ромбовидными ногами и вооруженных топором или молотом. На петроглифах северного берега Байкала головы таких фигур, наделенные двумя, иногда тремя лучами, сочетались с рисунком оленя с длинной вытянутой мордой и развесистыми рогами, простиравшимися вдоль всей спины, выполненных в позе «галоп» [9, с. 29].
С мифологическим мотивом «рождение потомства девой-лебеди-цей» перекликается рисунок, охарактеризованный А. П. Окладниковым как «Один из самых необычных на скале Саган-Заба. ... Вверху, справа выбита фигура птицы (гусь или лебедь) с длинной шеей и массивным туловищем. Птица стоит на одной ноге. К птице протянута рука антропоморфного существа, которое как бы держит птицу рукой за грудь. У этой антропоморфной фигуры грушевидная большая голова, широкое туловище с раздутым животом, напоминающим живот беременной женщины. Ноги широко расставлены и согнуты в коленях. Эта поза напоминает позу женщины, рожающей сидя, как это было принято у некоторых народов Сибири». Туловище фигуры заканчивается внизу треугольным выступом, возможно, показывающим, что младенец появляется на свет из чрева матери [Там же, с. 29-30; рис. 10; табл. 15].
В календарном осмыслении рисунок можно интерпретировать как графическое воплощение идеи рождения нового Солнце-года из чрева Матери-прародительницы, солярная природа которой в графике выражена образом тотемной птицы. С петроглифами байкальских бухт перекликаются наскальные рисунки Южной Сибири и Центральной Азии. Так, композиции с р. Чулуут в Монголии представлены такими же, как и на байкальских петроглифах образами рожениц с широко расставленными и полусогнутыми в коленях ногами, между которыми показан рождающийся ребенок. Некоторые из женских фигур Монголии имеют большие оленьи рога - символ тотемного предка [8, с. 91-95].
Свидетельство устойчивости художественного приема, посредством которого передана календарная семантика образа «роженицы» в культуре бурят, выступает графический символ оленя-матери - солнца, рождающей оленя-дитя - солнце, заменивший у хоринцев Забайкалья на лунном календаре китайского образца знак месяца дракона (май-июнь) [5, с. 152-153]. Временной период длительностью в 9 месяцев, отсчитываемый со дня осеннего равноденствия, с которым мы соотносим рисунок «Коитус» на петроглифах Саган-Заба и графическим символом рождения Солнце-года на деревянном календаре хоринцев (май-июнь), совпадает с периодом вынашивания плода у оленей и человеческого дитя.
Историко-культурную параллель представлениям о жилище отца-основателя племени Хоредое как модели Вселенной на скалах Саган-Заба можно видеть в рисунке, описанном автором как «сложная ажурная фигура из косых полос, заканчивающихся вверху короткими стержнями-лучами, сохранившаяся только в верхней своей части. Фигура напоминает сооружение в виде шатра или чума» [9, с. 30; рис. 10; табл. 15]. В конце XIX - начала ХХ в. балаганские буряты-булагаты в весенних обрядах, проводимых в мае, строили балаган из досок (урса). В него сажали пожилую пару из потомков младшего сына отца-основателя племени, их угощали разнообразными молочными блюдами, просили у них счастья и благословения [2, с. 89]. Как известно, в традиции бурят младший сын оставался хранителем огня отцовского очага.
С занятием старика Хоредоя в день, когда жена в образе солнечной птицы улетает в верхний мир, можно сопоставить обычай бурят Предбайкалья, отправляясь к изображениям бухты Саган-Заба и соседней с ней бухты Ая, специально гнать тарасун , чтобы совершить ритуальное подношение [12, с. 345, 352].
На историко-культурные истоки образов птиц на скалах бухты Саган-Заба как лебедей указывает их вертикальное расположение одна над другой. Аналогии этому приему представлены на высоком головном уборе молодой женщины из захоронения с плато Укок на Алтае в виде вертикально одна над другой прикрепленных пятнадцати деревянных фигурок лебедей и двух оленей, один из которых изображен стоящим на золотом шаре. На запястье женщины, принадлежащей к европеоидному компоненту в пазырык-ской культуре, изображена голова оленя с большими рогами [10, с. 3641].
Семантическую функцию войлочных фигурок лебедей, набитых оленьей шерстью, найденных при раскопках пятого Пазырыкского кургана среди деталей погребальной повозки, П. П. Азбелев объясняет воззрениями об их способности проникать в разные миры [1]. В традиционной культуре хори-бурят эти воззрения выражались в ритуале кропления женщинами молоком при весенней встрече и осенних проводах лебедей.
Итак, сопоставление персонажей и ключевых событий генеалогического мифа хори-бурят с материалами наскальной графики бухты Саган-Заба на северном побережье Байкала позволяет интерпретировать его сюжет как образец перехода календарного сюжета в генеалогический миф.
Историко-генетическая и культурно-семантическая трактовка основных событий мифа при отождествлении со сведениями археологических, исторических, этнографических, фольклорных и лингвистических источников позволяет увидеть в них культ солнца, обусловленный им тип календаря солнечного года и модель календарных обрядов ранних кочевников степей Центральной Азии.
Происхождение элементов искусства скифо-сибирского звериного стиля в байкальских петроглифах А. П. Окладников связывает с плиточными могилами на о-ве. Ольхон и северном побережье Байкала – вблизи с. Еланцы и в долине р. Куды на г. Манхай [9, с. 111–112]. В конце XIX – начале ХХ в. это ареал расселения бурят, в шаманский пантеон которых входили божества с общим названием «сайтинские». Анализируя содержание и стилистические особенности изображений антропоморфных фигур на петроглифах бухты Саган-Заба и соседней с ней бухты Ая на северном берегу Байкала, датируемых глазковским временем, А. П. Окладников приводит цитату из работы М. Н. Хангалова, соотносящую их образы с сайтин-скими божествами, бывших шаманами и шаманками [9, с. 77].