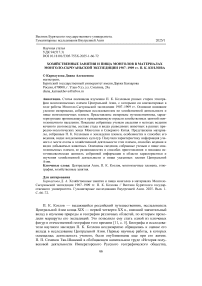Хозяйственные занятия и пища монголов в материалах монголо-Сычуаньской экспедиции 1907-1909 гг. П. К. Козлова
Автор: Карнаухова Д.А.
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению П. К. Козловым разных сторон этнографии монголоязычных племен Центральной Азии, с которыми он контактировал в ходе работы Монголо-Сычуаньской экспедиции 1907-1909 гг. Основное внимание уделено материалам, собранным исследователем по хозяйственной деятельности и пище монголоязычных племен. Представлены материалы путешественника, характеризующие производящую и присваивающую отрасли хозяйственных занятий монголоязычного населения. Показаны собранные ученым сведения о методах ведения кочевого скотоводства, составе стада и видах разводимых животных в разных природно-экологических зонах Монголии и Северного Китая. Представлены материалы, собранные П. К. Козловым о земледелии племен, особенностях и способах его ведения, видах возделываемых культур. Получила характеристику информация ученого о месте охоты в хозяйственной деятельности этих племен, способах ведения и видах добываемых животных. Освещены сведения, собранные ученым о пище монголоязычных племен, ее разновидностях и способах приготовления и показана источниковедческая ценность собранной информации в области характеристики и изучения хозяйственной деятельности и пищи указанных племен Центральной Азии.
Центральная азия, п. к. козлов, монгоязычные племена, этнография, хозяйственные занятия
Короткий адрес: https://sciup.org/148331412
IDR: 148331412 | УДК: 94(517.3) | DOI: 10.18101/2305-753X-2025-1-66-72
Текст научной статьи Хозяйственные занятия и пища монголов в материалах монголо-Сычуаньской экспедиции 1907-1909 гг. П. К. Козлова
Карнаухова Д. А. Хозяйственные занятия и пища монголов в материалах МонголоСычуаньской экспедиции 1907–1909 гг. П. К. Козлова // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2025. Вып. 1. С. 66–72.
П. К. Козлов — выдающийся российский путешественник, исследователь Центральной Азии конца XIX — первой четверти XX в., внесший значительный вклад в изучение природы и географии различных областей, по которым проходили маршруты его экспедиций. Это позволило ему стать одной из ключевых фигур в отечественной географии того времени [11, с. 5]. Биографы и исследователи научного наследия П. К. Козлова неоднократно обращались к оценке его вклада в исследование Центральной Азии. Первые научные работы, в которых освещалась деятельность ученого, были опубликованы еще при его жизни. П. П. Семенов Тян-Шанский в обобщающем капитальном труде «История полувековой деятельности Императорского Русского географического общества,
1845–1895» охарактеризовал П. К. Козлова как одного из самых ярких представителей российской географической науки своего времени [10, с. 995, 999]. В. А. Обручев дал оценку участию П. К. Козлова совместно с В. И. Роборовским в четвертом путешествии Н. М. Пржевальского, в ходе которого они исследовали западную часть Наньшаня, собирая ценные сведения о малоизученных районах и путях проникновения в Тибет [6, с. 191].
В советское время биография и научная деятельность П. К. Козлова нашли отражение в работах многих ученых. По мнению Н. В. Павлова, ученый, имея хорошую натуралистическую подготовку, особенно в орнитологии, собрал ценные сведения о растительном и животном мире изучаемых им территорий. Как отметил ученый, путешественник привез в общей сложности 1 300 экземпляров млекопитающих, из них десятки новых видов, 5 100 экземпляров птиц, сотни новых видов насекомых из 50 000. Были выделены заслуги П. К. Козлова в изучении белых пятен на карте Центральной Азии: горных хребтов Рокхилла, КуньЛунь, Лоб-Нор, районов бассейнов рек Хуанхэ и Янцзы [8, с. 9–14]. Э. М. Мурзаев в вводной статье к юбилейному изданию трудов к 100-летию со дня рождения П. К. Козлова обзорно рассмотрел все экспедиции ученого, проделанную им картографическую работу, определение астрономических и гипсометрических пунктов. Географ дал оценку вкладу П. К. Козлова в изучение гидрологии рек Центральной Азии, его труд по данной теме «Кочующие реки Центральной Азии» счел подробным и очень интересным [4, с. 7-10]. Геолог В. А. Обручев подробно описал совместную работу В. И. Роборовского и П. К. Козлова о проведении маршрутной съемки озера Кукунор, истоков рек Меконг и Янцзы [5, с. 32, 35, 63].
В монографии Т. Н. Овчинниковой представлен очерк биографии ученого и дана оценка результатам его деятельности в области картографии, в сборе геологических и палеонтологических коллекций в пределах Центральной Азии. Как отметила автор, П. К. Козлов развернул сеть хорошо оборудованных метеостанций в Турфанской впадине, на высокогорном плато Цайдам, в пустынных просторах Алашаня и нагорьях Кама, а также в горах Наньшаня. В каждой из этих станций, отметила она, проводились систематические метеорологические наблюдения и тщательные гипсометрические расчеты [7, с. 84–86]. В книге С. В. Житомирского подробно описаны экспедиции и естественнонаучные исследования, которые П. К. Козлов провел на территории Монголии и Тибета. Автор уделил внимание лимнологическим исследованиям ученого. С. В. Житомирский отметил, что ученым были исследованы озера Даши-Куль, Алык-Нор и Сангин-далай-Нор. Путешественник измерил глубину озер Орок-Нор и Кукунор, доказал точность расположения реки Лобнор, нанес на карту реку Кончедарью и Курлыкские озера [1, с. 24, 39, 168]. В постсоветский период следует выделить работу Т. И. Юсуповой, которая подробно рассмотрела как жизненный путь ученого, так и его вклад в изучение природы Центральной Азии. Как отметила автор, П. К. Козлов занимался изучением Ургинского района, Юго-Восточного Хангая, района Северной Гоби и долины Холт, степных и пустынных пространств от Урги до Хара-Хото. При этом было снято 3 500 км маршрута с определением астрономических и гипсометрических пунктов [11, с. 35, 84].
Таким образом, в основном биографы и ученые, дававшие оценку исследовательской деятельности П. К. Козлова, отмечали вклад ученого в изучение природы Центральной Азии. При этом ими почти не освещалась деятельность
П. К. Козлова по изучению народов Центральной Азии. Однако кроме географических исследований ученый уделял внимание и этнографическим аспектам, а также археологии, но гораздо в меньшем объеме по сравнению с ними. Относительно работ П. К. Козлова в области археологии можно привести оценки И. П. и В. И. Магидовичей. Они отразили вклад П. К. Козлова в выявление и изучение руин древнего города Хара-Хото, что являлось одним из крупнейших археологических открытий того времени. Материалы и артефакты, собранные П. К. Козловым, — рукописи и документы на древнем языке пролили свет на историю и культуру народа тангутов [3, с. 171]. Советский археолог С. И. Руденко в своей книге о культуре хуннов дал исчерпывающую оценку значению раскопок могильника Ноин-Ула, проведенных сотрудниками П. К. Козлова во время Монголо-Тибетской экспедиции в 1923–1926 гг. [9, с. 7, 117–118].
Выше была освещена вследствие ограниченности объема статьи лишь небольшая часть работ, в которых рассматривалась биография П. К. Козлова и давалась оценка его деятельности в области изучения Центральной Азии. Они были написаны как его современниками, так и исследователями советского и постсоветского времени. Их содержание свидетельствует о том, что исследователи жизни и деятельности П. К. Козлова, в том числе и такие авторитетные и известные ученые, как П. П. Семенов Тян-Шанский, Э. М. Мурзаев, В. А. Обручев, основной акцент делали на характеристике вклада путешественника и исследователя в изучение различных сторон природы и географии Центральной Азии, поскольку именно такие цели и задачи, в первую очередь, стояли перед экспедициями ИРГО в этот регион Азии в 1870–1920-х гг. Поэтому фундаментальные работы П. К. Козлова, как и руководителей других экспедиций ИРГО Н. М. Пржевальского, М. В. Певцова, В. И. Роборовского и др., содержат в себе материалы по характеристике различных сторон природы и географии Центральной Азии. По мере возможности руководители и участники центральноазиатских экспедиций ИРГО, включая и П. К. Козлова, уделяли определенное внимание характеристике народов региона и оставили в своих трудах сведения о них. Однако биографы и исследователи научного наследия П. К. Козлова этой стороне деятельности, за исключением его изучения «мертвого» города Хара-Хото и раскопок его экспедицией курганов хуннской знати на элитном могильнике Ноин-Ула в Монголии, уделили недостаточно внимания. Поэтому данный аспект в научном наследии знаменитого ученого-путешественника требует своего изучения и всестороннего освещения. Наша статья направлена по мере возможности на восполнение этого пробела.
Источниками информации для данной статьи послужили материалы П. К. Козлова, собранные им в ходе Монголо-Сычуаньской экспедиции 1907– 1909 гг. Во время ее работы ученый провел исследование таких районов, как Монгольский Алтай, Южная Гоби, Кукунорская область, оазис Гуйдуй, Амдос-ское нагорье и провинция Ганьсу. В его монографии представлены результаты исследования по различным аспектам этнографии, которые исследователь собирал попутно в ходе своих исследований. Еще раз отметим, что сбор этнографических материалов не являлся основной целью экспедиции, поэтому он проводился нерегулярно и в определенной мере зависел от расположенности местного населения к общению. Тем не менее П. К. Козлову удалось собрать определенные сведения по этнографии различных групп населения, в том числе о хозяйственных занятиях монгольских племен.
В собранных материалах П. К. Козлов описал различные стороны жизни монголов. В данной статье мы охарактеризуем материалы путешественника по освещению их хозяйственной деятельности. По ходу следования экспедиции исследователь собрал сведения о таких племенах, как цайдамцы, торгоуты, ала-шаньцы, живших в степных районах, сезонно перекочевывавших по пастбищам. Относительно алашаньских монголов ученый отмечал, что скотоводство являлось их главным занятием. По его сведениям, они разводили верблюдов и в меньшей мере овец [2, с. 293]. П. К. Козлов подчеркнул, что для жителей пустыни верблюды были не только источником мяса, шерсти и молока, но и транспортным средством, необходимым в пустынной местности [2, с. 232–233]. Также исследователь указал, что верблюды являются выносливыми животными, приспособленными к жизни в пустыне [2, с. 87]. Ученый зафиксировал наличие небольшого поголовья овец у номадов, объясняя это тем, что в условиях сурового пустынного климата с малым количеством осадков и скудной растительностью их было тяжело содержать в большем количестве [2, с. 236].
П. К. Козловым были оставлены сведения о составе стад, разводимых торгоу-тами. Это были в основном коровы и лошади [2, с. 210]. Исследователь указал, что каждый вид животных играл свою роль в хозяйстве и обеспечивал разные потребности кочевников. Так, лошади были незаменимы для верховой езды, перевозки грузов [2, с. 41]. По данным автора, корова для монголов также была особенно ценным животным. Молоко для торгоутов составляло основу рациона, шкуры использовались для изготовления одежды, обуви, жилищ (юрты) [2, с. 114, 146].
Следующей отраслью производящего хозяйства, которую выделил путешественник, было земледелие. П. К. Козлов в своих записях отметил, что земледелие у кочевников носило подсобный характер, частично восполняя их потребности [2, с. 130]. Тем не менее, по наблюдениям путешественника, кочевники могли выращивать некоторые неприхотливые и быстросозревающие культуры на стоянках во время длительных остановок. Например, исследователь писал, что кочевники алашанцы растили исключительно ячмень [2, с. 84]. Путешественник объяснил, что такой выбор монголов объяснялся тем, что ячмень неприхотливая культура, устойчивая к засухе и холодам. Издавна ячмень был одной из основных зерновых культур у кочевых народов. Он использовался не только для приготовления пищи (муки, каши), но и для корма скоту [2, с. 84].
По данным исследователя, единственным монгольским племенем, которое занималось земледелием в достаточной степени, являлись далды, что он объяснял тем, что они жили оседло. Далды, писал П. К. Козлов, выращивали ячмень, пшеницу и гречиху. Как отмечал ученый, их земли были орошаемыми. Поля получали влагу при помощи искусственных каналов, а плодородие почвы повышалось посредством внесения в нее смеси из плодородной лессовой земли, навоза, золы и других органических удобрений [2, с. 299].
Перейдем к рассмотрению отраслей присваивающего хозяйства монголов, сведения о которых содержатся в материалах путешествия П. К. Козлова. Присваивающее хозяйство было представлено двумя отраслями — охотой и собирательством. Охота, по сведениям путешественника, являлась неотъемлемым элементом традиционного уклада жизни монголов. По его экспедиционным сборам, охотой занимались алашанцы. Зачастую объектом охоты был марал [2, с. 118]. Такой промысел у номадов, по наблюдениям ученого, носил коллективный характер, они устраивали облавы на оленей. Кроме мяса и шкур зверь, отмечал П. К. Козлов, был ценен для алашанцев своими рогами, из которых они изготавливали лекарство. Бедняки монголы также добывали при помощи деревянных капканов песчанок [2, с. 119, 84]. Исследователь отметил, что алашанцы были одним из беднейших слоев населения Китая. В период засух, в условиях крайней нужды охота на песчанок становилась одним из немногих доступных способов пропитания для них [2, с. 202]. О собирательстве П. К. Козлов оставил более краткие сведения. Ученый зафиксировал, что монголы собирали грибы шампиньоны, затем для хранения их сушили и нанизывали на тонкую веревку [2, с. 184].
Следующей составляющей жизни монголов, о которой П. К. Козлов оставил информацию, являлась пища. О ней ученый оставил сведения в основном исходя из посещения жилищ монголов, пребывая у них в гостях, принимая угощения, но также его данные строились и на наблюдениях за жизнью номадов. Как отмечал ученый, основным видом пищи монголов были мясо и молоко, потому что скотоводство было их занятием и источником пропитания [2, с. 39]. Так, по данным путешественника, основными продуктами питания алашанцев, живших в пустынной местности, были верблюжье мясо и молоко, иногда мясо песчанок [2, с. 39]. Проживавшие на равнинной местности цайдамцы в основном питались бараниной, также употребляли кобылье молоко [2, с. 22]. Путешественник отметил, что помимо этих основных продуктов монгольские племена питались кирпичным чаем, маслом, кумысом, цзамбу [2, с. 74].
П. К. Козлов в своих записях также дал описание некоторых разновидностей пищи монголов. Так, по его данным, кирпичный чай — это вид чая, прессованный в форме кирпича. Он был очень популярен у кочевников Центральной Азии, включая монголов. Как отметил ученый, такой чай был удобен в транспортировке, долго хранился и хорошо утолял жажду [2, с. 286]. По данным исследователя, богатые алашанцы для разнообразия вкуса употребляли кирпичный чай, добавляя в него масло и верблюжье молоко. Из сладостей предпочитали печенье, изюм и сахар [2, с. 74]. Амдосцы, по его наблюдениям, пили кирпичный чай с хлебом и печеньем, поджаренным на бараньем сале [2, с. 422].
П. К. Козлов оставил сведения и о других продуктах питания монголов. Так, масло монголы получали из коровьего, овечьего, козьего и даже верблюжьего молока. Оно было важным источником жиров и калорий, особенно в условиях сурового климата [2, с. 351]. Ученый отметил, что кумыс еще один традиционный кисломолочный напиток кочевников, получаемый из кобыльего молока путем сквашивания. Кумыс ценился за свои питательные свойства, освежающий вкус и даже лечебные качества. Исследователь зафиксировал, что торгоуты изготавливали кумыс, который он оценил как вкусный и качественный продукт [2, с. 621].
Путешественник дал определение продукту «цзамба» как муке, изготовленной из обжаренных зерен ячменя. Он, по его мнению, являлся важным элементом монгольской кухни. Цзамбу ели в сухом виде, разводя водой или чаем, добавляли в супы и другие блюда [2, с. 337]. По данным путешественника, в качестве напитка цайдамские монголы с чаем употребляли цзамбу, сделанную из молотой ячменной муки [2, с. 22].
Подводя итоги исследованиям П. К. Козлова во время проведения МонголоСычуаньской экспедиции 1907–1909 гг., можно сделать вывод о том, что он наряду с выполнением большого объема природоведческих исследований провел определенную работу и по сбору этнографических данных о повседневной жизни монголоязычных племен. В аспекте хозяйственной деятельности ученый описал отраслевую структуру хозяйства, включавшую производящие и присваивающие отрасли, виды разводимых животных, возделываемые культуры, объекты охоты и собирательства. Ученый дал описание пищи монгольских племен, ее разновидностей, способов приготовления некоторых из них. Можно отметить, что сведения об этих сторонах жизни монголоязычных племен в наследии П. К. Козлова представляют собой значительный научный интерес, так как по прошествии более ста лет со времени их сбора П. К. Козловым они обрели ценность как источниковедческие материалы. Это во многом обусловлено тем, что они были собраны ученым в процессе непосредственного наблюдения за образом жизни и бытом этих племен, в частности за их хозяйственными занятиями и приготовлением пищи.
П. К. Козлов отмечал, что монголоязычные племена, встреченные им во время проведения экспедиционных работ, занимались, в первую очередь, скотоводством и в меньшей степени земледелием, охотой и собирательством. Ученый объяснял это тем, что кочевой образ жизни и скотоводство были неразрывно связаны между собой. Земледелие же у номадов было распространено намного меньше из-за его несовместимости с их кочевым образом жизни [2, с. 53].
Таким образом, кроме общегеографических исследований по изучению разных сторон природы Центральной Азии во время проведения Монголо-Сычуанской экспедиции П. К. Козлов определенное внимание уделял изучению и этнографии народов региона. В ходе этих исследований он собрал, кроме описанных выше сведений, определенное количество материалов и по другим сторонам их этнографической характеристики: быту, традициям, социальной организации, религиозным верованиям. Однако их освещение выходит за рамки нашей статьи. Поэтому они будут освещены в других публикациях.