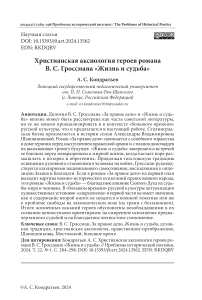Христианская аксиология героев романа В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба»
Автор: Кондратьев А.С.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
Дилогия В. С. Гроссмана «За правое дело» и «Жизнь и судьба» вполне может быть рассмотрена как часть советской литературы, но ее же можно проанализировать и в контексте «большого времени» русской культуры, что и предлагается в настоящей работе. Сталинградская битва преломляется в истории семьи Александры Владимировны Шапошниковой. Роман «За правое дело» начинается с семейного торжества в доме героини перед наступлением вражеской армии и с планов домочадцев на вызывающее тревогу будущее. «Жизнь и судьба» завершается встречей ее близких перед возвращением к мирной жизни, когда настает пора размышлять о потерях и обретениях. Продолжая толстовскую традицию освещения духовного становления человека на войне, Гроссман руководствуется категориями национального самосознания, восходящими к оппозиции Закона и Благодати. Если в романе «За правое дело» на первый план выходит картина военно-исторических испытаний православного народа, то в романе «Жизнь и судьба» - благодатное влияние Святого Духа на судьбы мира и человека. В «большом времени» русской культуры актуализация художественных установок «соцреализма» в первой части не имеет значения, как и содержание второй книги не сводится к военной тематике или же к проблеме свободы на законническом поле (на грани с беззаконием). Итоги жизненных исканий героев обусловлены возобладавшими в их сознании ценностными ориентирами: на смиренное исполнение предначертанного судьбой и на благодатное личностное становление.
В. с. гроссман, за правое дело, жизнь и судьба, духовная традиция, христианская аксиология, нравственное преображение, шапошниковы, мостовской, большое время
Короткий адрес: https://sciup.org/147243088
IDR: 147243088 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13562
Текст научной статьи Христианская аксиология героев романа В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба»
О своение духовной целостности историко-литературного процесса, укорененного в национальном самосознании православного народа, направляет исследовательские поиски, методологически восходящие к emik-подходу 1 , на понимание художественно-философского смысла русской классики в «спектре адекватности» авторскому сознанию: «…понятие "христианской традиции" является фундаментом подобных категорий филологического понимания, обращенного к русской классике. Присутствие в произведениях культурной памяти может быть определено как традиция. Осмысление в художественном творчестве христианской сущности человека и христианской картины мира, имеющее трансисторический характер, свидетельствует о собственно христианской традиции » [Есаулов, 2017a: 23].
В этом контексте духовной традиции и художественных исканий русской классики и роман В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба» невозможно свести только к проблеме воплощения военной темы. Подобно «Войне и миру» Л. Н. Толстого (т. 4, ч. 3), где повествование выстроено «данной нам Христом мерой хорошего и дурного» 2 как отслеживание преломления оппозиции Закона и Благодати в судьбах людей и в истории, и эпопея Гроссмана описывает нравственное становление человека в испытаниях на культурно-историческом переломе. С. И. Липкин, посвященный в коллизии творческого пути
-
В. С. Гроссмана, обратил внимание на затаенные планы автора «Жизни и судьбы»:
«Когда я как-то спросил, как будет называться вторая книга, Гроссман ответил: "Как учит русская традиция, между двумя словами должен стоять союз "и"»3.
Если «Слово о Законе и Благодати», « пасхальная проповедь » первой половины XI в. митрополита Илариона, « является одновременно и истоком русской словесности как таковой» 4 (этот «символический факт еще не осмыслен в должной мере», «русская словесность словно бы отрывалась от своего истока» [Есаулов, 2017b: 13]), то оппозиция жизни и судьбы , вынесенная в заглавие второй книги сталинградской дилогии, является прецедентной для христианской культуры антиномией Закона и Благодати 5 . С этим склонен был согласиться и С. И. Липкин:
«Двигались годы ежедневного труда, и Гроссман мне читал главы, сцены из романа <…> [его] стала волновать тема Бога, тема религии»6.
Дилогия Гроссмана «За правое дело» и «Жизнь и судьба» вполне может быть рассмотрена как часть советской литературы — скажем, ее «оппозиционного» субварианта (наподобие «Конармии» И. Бабеля), но она же может быть проанализирована также и в контексте «большого времени» русской культуры, уко рененной в христианской традиции.
Сталинградская битва дана в повествовании на фоне истории семьи Александры Владимировны Шапошниковой, вдовы самарского революционера и инженера-мостостроителя, окончившей еще в юности высшие женские курсы по естественно-научному профилю и свободно владеющей европейскими языками. Роман «За правое дело» начинается сценой встречи Гитлера и Муссолини, противопоставленной описанию сборов колхозника Вавилова на войну: с семейного торжества, устроенного перед наступлением вражеской армии, и с планов домочадцев на вызывающее тревогу смутное грядущее. Повествование «Жизни и судьбы» завершается уже после победы под Сталинградом встречей родных и близких Александры Владимировны перед возвращением к мирной жизни, когда настает пора размышлять о потерях и обретениях (обе сцены встречи родственников объединены повторяющейся деталью: на стол подаются пироги).
Следует обратить внимание на различие художественных систем романов, при их тематической близости (Сталинградская битва). В повествовании первой части дилогии, «За правое дело», преобладает военно-историческая конкретика воплощенных на законническом поле картин испытаний православного народа; «путешествие в глубь человека тогда не состоялось»7, что и актуализировано в заглавии ключевым словом «правый»8, апеллирующим исключительно к человеческому волеизъявлению. И поэтому прощальное письмо матери Штрума, погибшей в бердичевском гетто, не было опубликовано, т. к. в нем намечалось углубление представлений о человеке, попавшем под расчеловечивающий прессинг законнических установок:
«Многие люди поразили меня. И не только темные, озлобленные, безграмотные. Вот старик педагог <…> всегда спрашивал о тебе, просил передать привет <…> А в эти дни проклятые, встретив меня, не поздоровался, отвернулся»9.
«Жизнь и судьба», подводящая итоги «правого дела», переключает понимание происходящего с этих, граничащих с без-за конием, установок Закона — на то, что на судьбы человека и мира влияет Благодать Святого Духа: «Хочется, чтобы все по-иному стало на этой святой земле» ( Гроссман , 1998 : 639). К этому выводу и приходит Александра Владимировна Шапошникова, приложившая немало усилий к стяжанию закон-нических ориентиров на пути становления человека, трагически преломившихся в ее семейной истории и судьбе Святой Руси.
Михаил Сидорович Мостовской, человек из близкого окружения старшей Шапошниковой, преисполнен неколебимой уверенности в победе партийной идеи над фашистским мракобесием:
«А советская сила — огромная сила. И есть у нас партия, чья воля собирает, организует спокойно и разумно всю мощь народа»10.
Старый большевик, вдохновенно совративший в ссылке с праведного пути Николая Крымова, ставшего убежденным функционером, расставляет законнические приоритеты в духовном опыте человека, совпадающие с гитлеровской самонадеянностью, о которой с поразительной откровенностью фюрер поведал Гиммлеру:
«Теперь, когда я поставил Россию на колени, когда она простоит коленопреклоненной пятьсот лет <…> Ключ победы в моих ру ках» ( Гроссм ан, 1989 : 370).
Устроители нового миропорядка: верный ленинец, помышлявший о всемирном благе, и обезумевший радетель о германском величии — полагаются на созидательную силу провозглашенной бесовской программы кажущегося преображения мира и человека.
Кульминационная сцена разговора большевика Мостовского и гестаповца Лисса выписана как освещение духовного прозрения героев, в идеологическом ракурсе противопоставленных друг другу как представителей враждебных систем. В концлагере, куда попал движимый пропагандистской страстью Мостовской, его, как видного деятеля из числа сталинских адептов, вызывают на беседу с представителем Гиммлера Лиссом — штурмбаннфюрером СС, выпускником Берлинского университета, журналистом. У Лисса, с которым любил встречаться рейхсфюрер СС Гиммлер, в Управлении безопасности «было высокое положение без высоких должностей, — он считался умным человеком» (Гроссман, 1998: 357), в отличие от Эйхмана, заурядного и маловыразительного служаки нацистского режима, из провинциалов, взметнувшегося по карьерной лестнице на невероятные высоты. Признав Управление безопасности «стержнем жизни» или некоей «волшебной палочкой», дающей власть над миром и людьми, Лисс не раз ловил себя на мысли, что все происходящее в Германии делается словно бы ради блага неких «умных циников» и ограниченных олухов, не упустивших возможности заявить о себе (Гроссман, 1998: 359). Но он старался подавлять возникавшие и будоражившие его сомнения. Преуспевший же на идеологическом поприще Мостовской не знал сомнений и «ясно видел, что мощь советской державы во много раз больше силы старой России, что миллионы <…> сильны своей верой, <…> любовью к советскому отечеству» (Гроссман, 1989: 49). И неспроста после торжественного заседания областной партийной организации, посвященного 25-летию Октября, Крымов, введенный в революцию Мостовским, слышит, как сторож на СталГРЭСе, словно повинуясь душевному порыву, запел: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног…» (Гроссман, 1998: 390). От старого — стало быть, православного. Вера Лисса в «волшебную палочку», а точнее — в Гитлера, и романтические воспоминания Мостовского о Втором конгрессе Коминтерна, когда Ленин предрекал: «Грядет основание международной Советской республики…» (Гроссман, 1989: 45), — все это во многом, по аксиологическим координатам, сближает самоуверенных бойцов антихристианского фронта и стяжателей безблагодатного самоопределения (по законническому измерению вроде бы разведенных в разные стороны в социально-политическом противостоянии).
В облике Лисса Мостовской, к немалому своему удивлению, ничего отталкивающего и враждебного так и не заметил, а слова гестаповца насчет переделки человека по бесовским лекалам: «Наши руки, как и ваши, любят большую работу, не боятся грязи» — показались ему «повторившими его собственные» ( Гроссман, 1998 : 293). Лисс обращается к Мостовскому как к учителю, указавшему путь без Христа:
«Мы форма единой сущности — партийного государства» ( Гроссман, 1998 : 298).
Мостовской старается изо всех сил не признавать правоты собеседника, пытающегося найти в нем опору, и отвечает ему с напускной торопливостью и злобой, ожидая, что Лисс вправе отнестись к нему, как к врагу, — тогда бы «все стало просто и легко» ( Гроссман, 1998 : 296). Получалось, что они оба — соратники и союзники, и это подтвердил Лисс:
«Если мы победим <…> останемся без вас, одни против чужого мира, который нас ненавидит» ( Гроссман, 1998 : 293).
Схоже, с тревожной иронией, Лисс воспринял предположение Эйхмана о дальнейшем сотрудничестве по изведению жизни:
«Если вы разделите со мной труд, а Гитлер проиграет, мы будем висеть вместе <…> Перспектива прекрасная, стоит подумать» ( Гроссман, 1998 : 358).
Слушая откровения Лисса, Мостовской ловит себя на том, что и он переживал подобное:
«Может быть, эти сомнения, изредка то робко, то зло вдруг охватывавшие его, и были самым честным, самым чистым, что жило в нем. А он давил их <…> В них динамит свободы!» ( Гроссман, 1998 : 296).
И Мостовской, не в силах затушевать свое прозрение, проходит через точку высвобождения «свободы в человеке» как «очеловечивания людей» — победы жизни над нежизнью :
«…всей силой души, всей революционной страстью своей ненавидеть — лагеря, Лубянку, <…> Сталина, его диктатуру! <…> Надо осудить Ленина!» ( Гроссман, 1998 : 296).
Восстановление исконных аксиологических доминант в сознании Мостовского (застывшего отнюдь не на краю пропасти, как ему показалось, а перед прозрением, когда со всей очевидностью обнаруживается инквизиторская подмена христианской аксиологии, истины, добра и красоты , — чудом, тайной и авторитетом) совпало с победным наступлением на сталинградском фронте и роспуском Коминтерна, а также восстановлением патриаршества. Мостовской, разменявший харизму Ершова, одного из лидеров лагерного подполья, на чистоту анкеты, сам же по законническим установкам был ликвидирован. В разговоре с Ершовым он как-то заметил, в связи с чтением исповеди Иконникова, оставившего свое письмо и отказавшегося строить газовую печь, что евангелистом-то уж точно никогда не станет. Когда же Осипов, развеяв сомнения Мостовского насчет отношения к Ершову, вернул Михаила Сидоровича к законническим параметрам восприятия и оценки человека и мира, настало облегчение — снова ясная парадигма ориентиров, смоделированных его волей и, казалось бы, подвластных ему:
«…почувствовал, что невыносимое, мучительное ощущение сложности жизни уходит. Вновь, как в молодое время, мир показался ясным и простым, разделился на своих и чужих» ( Гроссман, 1998 : 237).
А это не что иное, как нарушение иерархии Закона и Благодати, когда доминантой становится именно Закон, а не Благодать, и подмена составляющих духовной оппозиции — сердцевины православного сознания и духовной традиции русского народа.
В поэме «Великий инквизитор», рассказанной Иваном Карамазовым брату Алеше, 90-летний кардинал вынужден был признать незыблемость христианской аксиологии:
«…ты был прав <…> тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлебы»11.
Продолжая размышления Ф. М. Достоевского, В. С. Гроссман пишет о происходящем на его глазах, преломленном в духовном опыте православного народа, одолевшего под Сталинградом, на берегу замерзшей Волги, беснующихся злодеев с якобы «самой передовой теорией»:
«Кто из гибнущих и обреченных гибели мог понять, что это были первые часы очеловечивания жизни <…> после десятилетия тотальной бесчеловечности!» ( Гроссман, 1998 : 548).
И отнюдь не военный эпизод — свидание в осажденном Сталинграде Зины с Бахом, офицером вражеской армии, — выявляет это самое очеловечивание:
«Она задумчиво гладила Баха по волосам <…> А сердце билось, билось и не хотело слушать хитрый, предупреждавший ее, стращавший голос» ( Гроссман, 1998 : 737).
До встречи с ней Бах в дневнике оставил такую запись:
«Сегодняшнее преступление — фундамент завтрашней добродетели» ( Гроссман, 1989 : 607).
И вслед за рассказом об их истории — тоже радость: у Евгении Николаевны, отвергнувшей статус генеральши и решившейся на участь супруги ссыльного, на Лубянке приняли передачу Крымову. Такая радость, что Виктор Павлович даже сел за пианино, а победный голос Левитана сообщил: «А также танковый корпус под командованием полковника Новикова» ( Гроссман, 1998 : 744), который ждал Евгению Николаевну в Сталинграде.
Уже после победы один из гостей Александры Владимировны Шапошниковой, муж ее погибшей в Сталинграде дочери Маруси, Степан Федорович Спиридонов — ставший на войне дедом, сохранивший в военное лихолетье СталГРЭС — с уверенностью, несмотря на отстранение от работы и новое назначение в уральское захолустье, произнес:
«Тучей на нас шли, а где эта туча? Победила Советская Россия» ( Гроссман, 1998 : 647).
В. С. Гроссман, воплощая в романе итоги понимания Победы, приходит к иным выводам. Комкор полковник Петр Павлович Новиков прибывшее пополнение, в отличие от генерала Неудобнова, видит богатырями:
«…они походили на сельских школьников, отдыхавших на переменке между уроками. Их худые лица, тонкие шеи, <…> все это было совершенно детским» ( Гроссман, 1998 : 373).
Они-то и победили, так что пополнение было отнюдь не бросовым ( Гроссман, 1998 : 375).
Майор медицинской службы Софья Осиповна Левинтон, в газовой камере, в предчувствии Страшного суда, заменяет мать доверившемуся ей мальчику Давиду.
Крымову, направленному в дом капитана Грекова, чтобы вос становить там большевистский дух, так и не удалось «сломить» управдома. Уличенный в недоверии к советской идеологии, тот сохранил жизнь Сереже Шапошникову и радистке Кате — они переживали мгновения первой влюбленности под огнем противника.
Нравственное становление человека в художественном мире романа Гроссмана определяет характер времени: «Быть человечным для Василия Гроссмана означало стать подлинным героем, как стали героями Греков, Рубин, Березкин, отчасти Новиков. Персонажи проявляют свою моральную сущность во времени и со временем» [Ланин: 30].
Так, поверженный законнической системой, Крымов на Лубянке получает передачу, в которую вложена записка с подписью: «твоя Женя». Так, наступление под Сталинградом состоялось вопреки Крымову, готовому из благих побуждений, заботясь о чистоте партийной теории, устранить Грекова, вопреки комиссару Гетманову, вопреки начальнику штаба генералу Неудобнову, написавшему донос на Новикова, не потерявшего ни одной машины и без людских потерь возглавившего движение танкового корпуса к западным границам. Наступление состоялось не по воле властей, но вопреки им, — по воле принявших благодатное покровительство Святого Духа.
Завершив роман «Жизнь и судьба», Гроссман 24 октября 1959 г. писал из Крыма С. И. Липкину:
«Я не переживаю радости, подъема, волнений. Но чувство хоть смутное, тревожное, озабоченное, а уж очень серьезное оказалось. Прав ли я? Это первое, главное. Прав ли перед людьми, а значит, и перед Богом?»12
И речь не о судьбе книги, которая виделась предрешенной, но об открывшихся в его сознании пророческих прозрениях и духовных предостережениях, не сопоставимых с возобладавшей в национальном миропонимании стереотипной аксиоматикой, — подобное же состояние переживали и А. С. Пушкин по поводу «Евгения Онегина», и И. А. Гончаров, целое десятилетие не расстававшийся с романом «Обломов». Последние слова в романе о Сталинградской битве Гроссман отдает Александре Владимировне Шапошниковой — ведь судьба страны складывается из жизни и судьбы каждого. Она мысленно обращается к Мостовскому, а отчасти даже и к самой себе, не узнавая свой разрушенный Сталинград: «Почему так запутана, так неясна <…> судьба» ( Гроссман, 1998 : 643) ее родных и близких? Она размышляет о том, как бы предостеречь от трагических последствий подмены спасительной благодати сомнительным законничеством :
«…но не дано <…> року истории, и року государственного гнева, и славе, и бесславию битв изменить тех, кто называется людьми <…> и в том их вечная горькая людская победа над всем величественным и нечеловеческим, что было и будет в мире, что приходит и уходит» ( Гроссман, 1998 : 644).
Евгения Николаевна Шапошникова, принявшая решение изменить свою жизнь и возвратиться к оставленному ею же Крымову, с тревогой и надеждой приближается к Лубянке и на уровне культурного бессознательного ощущает, что ступает на благодатный путь человеческого самоопределения:
«Старая судьба стала ее новой судьбой. То, что, казалось, навсегда ушло в прошлое, стало ее будущим» ( Гроссман, 1998 : 510).
Нравственный выбор Мостовского, Софьи Осиповны Левинтон, Жени Шапошниковой и даже прозрение Паулюса после Сталинграда свидетельствуют о духовной состоятельности иерархии Закона и Благодати, или жизни и судьбы , как доминант национального самосознания православного народа.
Список литературы Христианская аксиология героев романа В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба»
- Барышников Е. П. "Жизнь для других" как нравственно-эстетическая категория творчества Л. Н. Толстого // "Война и мир" Л. Н. Толстого: духовные константы и социальные переменные отечественной истории: мат-лы XVI Барышниковских чтений. Липецк: ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. С. 4-9 [Электронный ресурс]. URL: download/elibrary_41253222_60182473.pdf (01.11.2023). EDN: SOEHAX
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. 287 с. EDN: ZHEFPF
- Есаулов И. А. Евангельский текст в русской культуре и современная наука // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск; СПб.: Алетейя, 2011. Вып. 9. С. 5-23 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1429962763.pdf (01.11.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2011.300 EDN: QBFTTT
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: РХГА, 2017. 550 с. (a).
- Есаулов И. А. Оппозиция Закона и Благодати и магистральный путь русской словесности // Русская классическая литература в мировом культурно-историческом контексте. М.: Индрик, 2017. С. 13-42 [Электронный ресурс]. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2061116 (01.11.2023). (b). EDN: QAYSVC
- Захаров В. Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 5-30 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2472 (01.11.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2472 EDN: RUYKBH
- Ланин Б. Философские идеи Василия Гроссмана // Acta Slavica Iaponica. Т. 36. 2015. С. 25-38 [Электронный ресурс]. URL: https://laninboris.com/wp-content/uploads/2015-grossman-pp.25-38.pdf (01.11.2023).