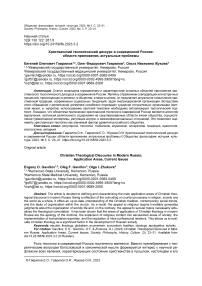Христианский теологический дискурс в современной России: области приложения, актуальные проблемы
Автор: Гаврилов Евгений Олегович, Гаврилов Олег Федорович, Жукова Ольга Ивановна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена определению и характеристике основных областей приложения христианского теологического дискурса в современной России. Являясь отражением совпадающих или встречных процессов, происходящих в религии, в обществе, в мире в целом, он предлагает актуальное осмысление христианской традиции, современных социальных тенденций, задач внутрицерковной организации. Вследствие этого обращение к религиозной догматике неизбежно порождает суждения относительно организации светской жизни, и, напротив, использование светской тематики необходимо актуализирует теологический подтекст. Показано, что областями приложения христианской теологии в современной России является апология вероучения, экспансия религиозного содержания на секуляризованные области жизни общества, осуществление гуманитарной экспертизы, регуляция внутри- и межконфессиональных отношений. Это позволяет оценивать христианскую теологию как значимый фактор развития российского общества.
Секулярное, теология, глобализм, экуменизм, синкретизм, традиция, идеология, апологетика, автаркия
Короткий адрес: https://sciup.org/149142489
IDR: 149142489 | УДК: 130.122: | DOI: 10.24158/fik.2023.3.2
Текст научной статьи Христианский теологический дискурс в современной России: области приложения, актуальные проблемы
2Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово, Россия ,
,
,
,
,
,
перспективы в будущем. Её предметная область широка и распространяется не только на различные аспекты внутрицерковной жизни, но и на светские сферы общества. А это значит, что теология становится значимым фактором социальных процессов. Проблема состоит в том, что взаимозависимость теологических концептуализаций и социальной повестки дня осознаётся далеко не всегда, а оценка её роли в общественных процессах лишена однозначности. Задача настоящего исследования состоит в определении и характеристике основных направлений взаимосвязи религиозного и светского компонентов христианской теологии в современной России.
Начать следует с уточнения положения теологической мысли в современной России, затем необходимо наметить наиболее актуальные аспекты её воздействия на общественную жизнь. Заметим, что обращение к самой многочисленной христианской конфессии России – православию – выглядит закономерным, однако предполагает учёт более широкого религиозного контекста, включающего другие христианские конфессии нашей страны.
Говоря о русском православии, специалисты констатируют, что в исторической ретроспективе способность к теологической рефлексии у его представителей была относительно слабо развита. Преодоление этого состояния происходит только сейчас, да и то в направлении научнопрактических исследований или просто в пользу религиозной практики, опытного аспекта богословия. Добровольное неразумие, дефицит теоретической мысли, которые справедливо опознает в отечественной церковно-научной среде В.К. Шохин, наверное, может быть расценено как признак младенческой незрелости (Шохин, 2014: 58–60). Но можно говорить и об историко-культурной специфике развития православия в России, когда востребованными становятся иные, нежели в католической и протестантской Европе или православной Византии, направления теологической мысли. Если же говорить о христианских учениях России в целом, то часть из них имеет значительный багаж многовековых теологических изысканий, что безусловно имеет побудительный характер по отношению уже к собственной русской православной теологии.
В современной России активизация теологического дискурса по сравнению с советским периодом налицо. Это тем более заметно, если исходить из широкого понимания теологии не только как области сугубо внутриконфессиональной теории, но и как сферы социально-прикладной мысли. Последняя, может быть, и не относится к исключительно теологическому знанию, но часто выступает его прямым следствием, а в некоторых случаях – и источником. Отдельные специалисты предлагают деление теологического дискурса на популярно-теологический и теоретико-теологический (Романченко, 2006).
Даже в самом узком понимании теологический дискурс в современной России, в том числе отдельно взятого русского православия, лишён монолитности. В нем обнаруживаются различные подходы к вопросам и теории, и практики. В области внутриконфессиональной теории, по сравнению с католицизмом и тем более с протестантизмом, в нём угадывается стремление вернуться к патристическим истокам, двигаться в направлении сохранения основ веры, закреплённых в решениях первых семи Вселенских соборов. Однако предпринимаются усилия и в противоположном отношении. В более широком общесоциальном контексте можно констатировать наличие в Русской православной церкви (РПЦ) как минимум консервативного, либерального и социалистического крыла. Отсутствует согласие и по вопросам использования современных технологий, участия в различных политических акциях и т. п.
Аспекты теологической мысли разнообразны. По крайней мере, можно говорить о философской, исторической, практической ее разновидностях. Но границы между ними размыты, в некоторых вопросах они пересекаются, взаимодополняя друг друга. Например, историческая теология, обращаясь к раннехристианским текстам, демонстрирует свою близость к философской, а разворачиваясь к проблемам современности – к практической. Как бы то ни было, по мнению исследователей, теоретическое богословие в различных формах своего проявления рассматривает события и явления христианства в контексте глобального масштаба, где прошлое, настоящее и будущее переплетаются, а «теология оказывается ответственной не только за изучение прошлого христианской традиции, но и за налаживание связи с современностью и за последствия этого взаимодействия» (Михайлов, 2015: 19). Данную точку зрения можно дополнить суждением, что явления и события современного глобального общества, включая его светскую часть, теология рассматривает в контексте христианского учения. Определим, с какими тенденциями глобального масштаба соотносится теологический дискурс христианства в современной России.
Прежде всего отметим, что роль самого теологического дискурса, как и религии в целом, с последнего десятилетия ХХ века в обществе возрастает, что стало особенно заметно после закрепления в Конституции РФ 1993 года идеологического многообразия, запрета на установление обязательной государственной идеологии (ст. 13)1. Религия частично восполняет идейный вакуум, возникший после смены политического строя и развенчания его идеологических оснований в лице марксизма-ленинизма. Она продемонстрировала способность к массовому вовлечению людей в объединяющие формы активности, выступила средством установления этических идеалов, привела к радикализации части общества, стала активным участником экономических отношений (Жукова, Жуков, 2017: 17). В этих условиях для христианской теологии открывается широкое поле деятельности. Назовём и охарактеризуем основные области её приложения.
Первая проявляется в формировании апологетической аргументации в условиях идейного плюрализма. Данная направленность теологического христианского дискурса в современной России проявляется в распространении, обосновании и защите христианской догматики в условиях разнообразия идей религиозного и светского содержания. Переломная эпоха, связанная с трансформацией политического пространства бывшего Советского Союза, с точки зрения идейных процессов отчасти напоминала времена Тертуллиана и Августина Блаженного, когда христианская церковь не только делала первые шаги по пути институционального оформления, но и проверяла основательность вероучения в полемике с внешними и внутренними идейными противниками. Защитники православного христианства в 90-е годы XX века активно включились в публичные дебаты с представителями иных традиционных конфессий, сторонниками Нового религиозного движения (НРД), политиками, психологами и др. Помимо теологических идей, предметом обсуждения в них становились и остросоциальные вопросы. Так, в ходе полемики с представителями антиклерикальных кругов, светского общества, различных религиозно-мистических организаций оттачивалась и получала публичную артикуляцию религиозная интерпретация нецерковных явлений, убедительная с точки зрения современности аргументация основ христианской и, в ее рамках, православной догматики. В 20-е годы XXI века формы публичности немного меняются, дискуссии чаще ведутся заочно ‒ на страницах тематических интернет-форумов, собственных медиаресурсов и т. п. Тем не менее и сейчас возможен очный формат прений, причем не только в кругу единомышленников1.
Одним из следствий развития апологетического дискурса в России, отнюдь не только христианского, стали этно-сепаратистские конфликты и иные эксцессы, связанные с идеей религиозной исключительности или стремлением отстоять конфессиональные ценности. В то же время в медиапространстве и публичной сфере присутствие священнослужителя становится обыденным явлением. Со временем государство идет на осознанное сближение с традиционными конфессиями, постепенно оттесняя ряд религиозных течений на периферию социальной жизни. В результате высказывания представителей Церкви в лице клириков и людей, входящих в околоцерковные круги, начинают в определённой мере выполнять роль компенсатора дефицита государственной идеологии.
Следует учитывать, что апологетический дискурс российского христианства не имеет единства. Его успехи, особенно в версии православия, корректируются рядом условий, связанных со спецификой конфессиональной политики в постсоветской России (Гаврилов, 2017). Государство, выражая благожелательность к традиционным конфессиям, вместе с тем декларирует свой светский характер, что не только обязывает его к юридическому признанию нескольких культурообразующих конфессий, но и оставляет открытой дверь для нетрадиционных религиозных или ква-зирелигиозных движений (обычно в духе саентологии и нью-эйдж), причём в некоторых случаях – в высших эшелонах бизнеса и публичной власти российского общества2 (Четверикова, 2019). Последнее удивительным образом сочетается с посещением официальными лицами храмов, меценатской деятельностью богатых персон в пользу культурообразующих религий. Противоречивость в этом отношении демонстрируют и так называемые «широкие массы»: при общем позитивном восприятии христианства, в частности, православия, значительная часть общества дистанцируется от Церкви, оставаясь в большей степени в стороне от её жизни (Патрин, 2021). Эта двойственность поведения членов общества и представителей государственной власти в отношении к религии может быть истолкована как препятствие на пути развития теологического дискурса современной России, но в то же время она позволяет осознать действительные направления апологетической мысли в нашей стране начала XXI века.
Второй областью, где христианская теология в России находит своё приложение, является её экспансия в нерелигиозную сферу. Эта сторона её реализации тесно связана с задачами апологетики, о которых мы говорили выше, поскольку защита веры одновременно есть и средство ее распространения. Но здесь речь идет не столько о вовлечении, сколько о возможности наполнять религиозным содержанием секуляризованные области жизни общества, находить в религии средство решения внецерковных задач индивидов. Теология и раньше никогда не замыкалась только на внутренних вопросах. В прошлом это было обусловлено доминантным положением религии в обществе. Со времен первых Вселенских соборов теологический дискурс прямо коррелировал с различными аспектами внутренней и внешней политики государств. Так, в средневековой России спор нестяжателей и иосифлян в качестве основы имел богословский вопрос о монашеской бедности, но, по сути, касался имущественных прав Церкви и даже ее отношения к еретикам. Однако из спора о материальном он превратился в дискуссию о политической власти (Кореневский, 2022). Теологическая концепция Москвы как «третьего Рима» не только стала богословской доктриной, определяющей самовосприятие Русской православной церкви в пространственной и временной оптике, но и превратилась в элемент государственной идеологии на перспективу (Кореневский, 2022). В период Нового времени в Российской империи Церковь сохраняла свой статус государственной религии, но ее влияние слабело под напором позитивистских и материалистических трактовок истории. Советское государство хотя повторно и восстановило упразднённое династией Романовых патриаршество (Второе восстановление патриаршества в Русской православной церкви в 1943 году …, 2020), но вместе с тем редуцировало значение теологического дискурса до периферийного. Тем не менее голос Церкви и тогда раздавался порой весьма явственно: то в защиту Отечества от фашистских оккупантов, то, напротив, в процессе отстаивания идеи России без немцев и большевиков. Имели место случаи поддержки представителями РПЦ фашистского режима на оккупированных территориях (Зеленова, 2015).
В нынешнем столетии, по крайней мере, формально, можно говорить о восстановлении значимости теологического дискурса в целом и христианского в частности. Сегодня заявления священнослужителей оказывают не меньшее влияние на общественное мнение, чем высказывания политиков. Теологический дискурс затрагивает области искусства, образования, идеологии, экономики и пр. Так, получение теологией в 2015 г. статуса научной дисциплины из перечня ВАК формально уравняло науку и религию. Теперь они могут восприниматься как отдельные области знания. Интересна точка зрения С.В. Девятовой, которая различает их и считает, что «наука будет отвечать на вопросы “Что?” и “Как?”, исследовать объективное и внеличностное, а теология – отвечать на вопросы “Почему?” и “Зачем?” и заниматься субъективным и личным», что позволит, по мнению исследователя, избежать конфронтации (Девятова, 2021: 361). Однако теперь суждения теолога, юриста или физика ‒ прежних идейных оппонентов ‒ юридически одинаково научны, а значит, претендуют на так называемую «научную истинность» и объективность. Следовательно, теологическая трактовка различных сторон общественной жизни формально не просто носит религиозный характер, но и должна рассматриваться как научно обоснованная. Это обстоятельство порой с трудом осознается современными позитивистски ориентированными социальными слоями, но именно в нем проявляется освоение теологией внецерковной и внерелигиозной сферы общественной жизни. Широкая область внутрисоциальных отношений получает теологическое истолкование, причем в качестве не вспомогательного мнения, а основной трактовки, претендующей на организацию жизни в конкретной сфере общественных связей.
Насколько экспансия теологии действенна? Если говорить о христианской ее части, то возможности корректируются теми же условиями, которые были сформулированы для первой области ее приложения – апологетики. В то же время такой потенциал открывает важную сторону жизни общества, редуцированную веками развития светского общества и находящуюся как бы в тени. Речь идет о проявлениях сакрального в светском, религиозного в мирском, что не раз становилось предметом изучения (Гаврилов, Гаврилов, 2020), а сегодня может быть удостоверено теологией. Важным следствием такого истолкования экспансии теологического дискурса становится понимание фактического отсутствия какой-либо сферы в обществе, полностью свободной от религиозной интерпретации. Государственная политика в России внешне, кажется, направлена на формирование именно такого подхода, что преподносится как залог сохранения традиционных ценностей в обществе. На деле же она оборачивается результатами полностью противоположными, что будет раскрыто в дальнейшем.
Третья сфера приложения христианской теологии в современной России производна от первых двух и состоит в реакции теологического дискурса на социальные новации современности, сомнительные с точки зрения традиционности, нравственности, законности перемены в общественной жизни, именуемые их сторонниками как «прогресс». Речь идет об использовании теологического дискурса в качестве инструмента гуманитарной экспертизы . Именно эта сфера открывает прикладные возможности христианской теологии и также явственно обозначает стремление их устранить из социально-прикладной сферы.
С одной стороны, на религию возлагается чуть ли не обязанность оценки этичности, гуманности и традиционности социальных новаций. В России позиция христианской теологии в лице прежде всего православия получает широкое освещение, служит поводом для острых дискуссий. Представители духовенства привлекаются к осуществлению консультативной и экспертной функций, участвуют в обсуждении законопроектов, выражают официальную позицию Церкви, адресованную в том числе государству1.
С другой стороны, трактовка остросоциальных вопросов, сформулированная Церковью в ответ на ожидания общества, официальные запросы представителей политических кругов, помечается «заказчиками» как своего рода «ретроградство» или попросту игнорируется, остается «гласом вопиющего в пустыне». Так, однозначно отрицательная позиция Церкви относительно законопроекта № 211535–8 об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных в единой биометрической системе (ЕБС)2 безосновательно остается без внимания3. Налицо расхождение между заверениями представителей публичной власти о приверженности традиционным ценностям и их намерениями широко внедрить биометрию в общественную жизнь. Приведенный пример не единственный.
На протяжении нескольких лет представители христианских конфессий, известные лица РПЦ призывают обратить внимание на развращающее социальное влияние цифровых технологий, трансгуманистских экспериментов на человеке и многое другое4. За респектабельностью новейших достижений науки и техники в виде цифровой идентификации личности, электронного правительства, генетических экспериментов над людьми, проектов по трансформации человеческого тела и прочего, продвигаемого Всемирным банком и глобалистскими структурами, угадывается преемственность со старыми ересями, языческими демоническими культами и даже сатанизмом (Четверикова, 2019; Шаткин, 2018; Коваль, 2016; Неприкосновенность человеческой личности от момента зачатия и до смерти (на примере этических проблем аборта, клонирования и эвтаназии) …, 2013).
Важно пояснить, что во всех этих призывах представителей российской христианской теологии отнюдь не содержится отказа от технических достижений, но лишь делается акцент на последовательном сохранении неприкосновенности личности, духовного мира человека, его избавлении от техноконтроля, генетической и когнитивной трансформации и т.п. Что примечательно, в них теологический дискурс прямо и порой дословно совпадает с положениями основного закона РФ в отличие от других инициатив, названных выше, которые статьям Конституции противоречат. Настороженное отношение богословия в современной России к рискованным новациям, исходящим из возможностей современных технологий, таким образом, оказывается мерилом подлинности православия. Сберегая и применяя этот инструмент отделения подлинного от неподлинного, религиозная христианская традиция пытается сохранить себя, свою аутентичность. Решения власти, не отвечающие этому стремлению, по определению антитрадиционны.
Четвертой областью, скорее внутрирелигиозной, нежели внешней, в которой христианская теология проявляет себя, становится экклизиологическая проблематика. Она приобрела сегодня особую остроту из-за того, что некоторые подходы к трактовке принципов внутрицерковной жизни, которые складываются в рамках универсалистских, глобалистских тенденций, идущих со стороны так называемого Запада, стали вызовом религиозной традиции.
Теологический дискурс в этой области находит свое выражение в оппозиции экуменизма и антиэкуменизма. Глобализация усилила экуменистические тенденции во всем мире. Россия не стала исключением, в ней также высказываются позитивные оценки открытости, единству человечества, толерантности, диалогу между религиями, поиску универсальных принципов организации общественной жизни и т. п. Дискурс русского православия, по крайней мере внешне, в большей степени занимает сторону аниэкуменизма, представители же иных христианских конфессий придерживаются различных позиций. Если для протестантских сообществ вопрос религиозной открытости ставился с самого момента их возникновения (например, Симультанеум), то для католической церкви этот вопрос оказался исторически связан с миссионерской деятельностью в нехристианизированных ареалах, а главное – с идеей восстановления единства Церкви, утраченного в 1054 году (Великая схизма). Начало этому было положено декретом Второго ватиканского собора католической церкви в 1964 году (Unitatis Redintegratio)1. О некоторых версиях концептуализации последних и пойдёт речь ниже.
Одним из вариантов экуменизма является плюралистическая теология, отрицающая претензию какой-либо христианской конфессии на обладание абсолютной истиной и, следовательно, допускающая лишь относительное восприятие трансцендентного Абсолюта каждой из них (Хромцова, 2019: 225–226). В понимании представителей этого подхода, человек принципиально обречён на рецепцию лишь феноменальных манифестаций Бога, поэтому любая претензия на знание абсолютной истины может расцениваться как идолопоклонство, а заявления об уникальности Христа ‒ как местничество (Хромцова, 2019: 231; Cobb, 1987: 88). Поскольку непосредственное видение Бога невозможно, вместо принципа христологичности следует избрать принцип богоцентричности, что предполагает замену веры в живого Христа на веру в абстрактного и полностью трансцендентного бога (Хромцова, 2019: 233). Тогда и Священное Писание следует рассматривать лишь как одну из множества равноценных интерпретаций сакральной истины, вся полнота которой как бы распределяется между конфессиями.
Если плюралистическая теология вполне определённо идентифицируется как разновидность глобалистского тренда, то контекстуальная теология, исходящая из равноценности каждой локальной культуры, на первый взгляд, воспринимается как её антитеза: первая призывает к унификации, последняя – к уникальности. Равные права толкования христианских ценностей получают женщины (ординация женщин), представители рас, члены маргинальных слоёв общества, например, квир-сообществ. Представителями этого подхода продвигается идея, что данные сообщества могут предлагать свои интерпретации христианских догматов как не противоречащие их образу жизни или оправдывающие его, а также аргументировать общественное признание своих групп (Шнайдер, 2021: 174). Как видно в этой трактовке, разделение общехристианских ценностей на групповые интерпретации сочетается с обоснованием их права вносить коррективы в толкование священных текстов. Напрашивается контраргумент, что использовать риторику контекстуальной теологии в своих целях могут представители самых специфических течений, включая даже сатанистов, если решат обосновать свою принадлежность к символу веры и библейским заветам. Очевидно, что при таком подходе своеобразие христианского вероучения теряет свою определенность, расходится с каноном и в конечном счёте утрачивается.
Если присмотреться, то антиглобалистская, антиэкуменистическая направленность контекстуальной теологии – это лишь видимость. Её логика такова: все современные тренды должны учитываться теологией, включая собственно глобализацию с её узнаваемыми духовными инвазиями западных ценностей в местные культуры. Так, начав с реабилитации локального характера религиозности, контекстуальная теология, по сути, оказывается на позициях приспособления религиозной жизни в том числе и к тому, что традиционно Церковью определялось, как грех (Шишков, 2021: 71). Делается это через «сознательное и подчеркнутое помещение конкретного контекста в самый центр теологической рефлексии (кроме опыта угнетения, это могут быть гендерные, экологические, расовые, этнические, медицинские, сексуальные и другие проблемы)» (Степанова, 2021: 19; Руткевич, 2014: 6–7, 10–12). Любые попытки сохранить преемственность с истоками христианской веры рассматриваются её представителями как навязывание европоцентричной позиции. Но следует оговориться, что под данным термином первоначально понималось некое ядро моральных ценностей Европы Нового времени, а это – нечто другое по сравнению с духовной атмосферой современной Европы и западного мира в целом. Из этого следует, что контекстуальная теология вполне адекватна глобализму и, соответственно, экуменизму, заменяя идею унификации веры идеей эклектической трансформации её основ.
Всё это позволяет судить о тех угрозах, которые несут плюралистическая и контекстуальная теологии современному христианству в России и, прежде всего, православию. Первая, очевидно, редуцирует его к статусу одного, ничем особо не примечательного элемента из огромного конгломерата вероучений, вторая – «привязывает» его к вариативным аспектам социальной реальности. Следовательно, истинный антиэкуменизм может развиваться только как антитеза этим двум направлениям в теологии. Антиэкуменистский тренд, формирующийся в рамках христианского теологического дискурса в современной России, следует рассматривать как необходимую преграду на путях духовной эрозии, извращения и выхолащивания религиозных смыслов, теологической колонизации1. Тот диалог, к которому призывают сторонники экуменизма, в конечном счете ведет к отказу от христианства, а отречение от идеи религиозной уникальности размывает ценностные установки, содержание сакральных истин, уводит в сторону от православной традиции, а вслед за этим – и от некоторых принципов внутренней и внешней политики государства, в которой православие играет одну из значимых ролей. Но не только оно реализует себя в качестве защитника традиционных ценностей. Эту миссию выполняют и иные культурообразующие конфессии России. Все они едины в том, что диалог конфессий не состоится, если его участники будут настаивать на корректировке догматов.
Дополним проведенное сопоставление экуменизма и антиэкуменизма суждением о том, что не следует считать дискуссии на экклезиологическую тематику только внутрицерковным вопросом, они имеют заметное приложение к нерелигиозной сфере общественных отношений. Это было раньше, есть и сейчас: глубокие религиозные реформы обычно совпадают с радикальными изменениями в политике и общественной жизни в целом. Именно с этой точки зрения можно трактовать тренды на объединение всех христианских конфессий или даже всех религий.
Таким образом, теологический христианский дискурс в современной России востребован и получает своё развитие в направлении актуальных социальных проблем, а также вопросов внут-рицерковной жизни. Он демонстрирует свою апологетическую направленность, что обусловлено остротой полемики, протекающей в условиях идейного плюрализма и мировоззренческого противостояния. Его потенциал не раскрывается в полной мере в связи с тем, что не получает согласованной поддержки со стороны общества и публичной власти. Присутствуя во всех сферах общества, он всё ещё недостаточно используется в качестве инструмента экспертизы значимых социальных новаций, некоторые из которых продвигаются силами глобализма. Тем не менее теологический дискурс русского христианства в своей критике принципов плюралистической и контекстуальной теологий оказывается препятствием на пути этого наступления, что позволяет рассматривать его как действенный фактор развития российского общества. Христианская мировоззренческая позиция становится легитимной точкой зрения на актуальные вопросы религиозной и светской жизни, что не исключает внутренних и внешних противоречий, связанных с реализацией ее потенциала.
Список литературы Христианский теологический дискурс в современной России: области приложения, актуальные проблемы
- Второе восстановление патриаршества в Русской православной церкви в 1943 году / Г. Кочетков [и др.] // Вестник Свято-Филаретовского института. 2020. № 33. С. 162-168. https://doi.org/10.25803/SFI.2020.33.54188.
- Гаврилов Е.О. Проблемы и альтернативы конфессиональной политики современного российского государства // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 4. С. 56-60.
- Гаврилов О.Ф., Гаврилов Е.О. Сакральное в светских символах // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2020. № 52. С. 44-51. https://doi.org/10.31773/2078-1768-2020-52-44-51.
- Девятова С.В. Интеллектуальное партнерство христианской теологии и науки // Манускрипт. 2021. Т. 14, № 2. С. 358-362. https://doi.org/10.30853/mns210041.
- Жукова О.И., Жуков В.Д. Религиозное сознание как фактор культуры современного человека // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 39. С. 13-18.
- Зеленова О.В. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2015. Т. 8, № 3. С. 52-63.
- Коваль Т.И. Достижения биомедицины в оценке христианских конфессий // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 3-2 (65). С. 87-91.
- Кореневский А.В. Ревнители и потаковники: пять веков русского спора о власти // Новое прошлое. 2022. № 2. С. 8-28. https://doi.org/10.18522/2500-3224-2022-2-8-28.
- Михайлов П.Б. Богословие на перепутье: философская или историческая теология? // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. 2015. № 2 (58). С. 9-24. https://doi.org/10.15382/sturI201558.9-24.
- Неприкосновенность человеческой личности от момента зачатия и до смерти (на примере этических проблем аборта, клонирования и эвтаназии) / Л.А. Воропаева [и др.] // Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 5-3 (12). С. 58-63.
- Патрин В.Г. Нецерковное религиозное большинство как проблема современной православной церкви: социально-философский аспект // Logos et Praxis. 2021. Т. 20, № 3. С. 27-31. https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2021.3.3.
- Романченко Ю.В. О понятии «теологический дискурс» // Языковая личность - текст - дискурс: теоретические и прикладные аспекты исследования: в 2 ч. Самара, 2006. Ч. 1. С. 127-129.
- Руткевич Е.Д. От «религиозности» к «духовности»: европейский контекст // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2014. № 1. С. 5-25.
- Степанова Е. Теология в контексте: подлинность частного как вызов универсальности христианской истины. Введение // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2021. Т. 39, № 2. С. 7-37.
- Хромцова М.Ю. Плюралистическая теология о возможных стратегиях на пути к конструктивному сосуществованию религий // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2019. Т. 20, № 3. С. 221-234. https://doi.org/10.25991/VRHGA.2019.20.3.053.
- Четверикова О.Н. Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России. М., 2019. 320 с.
- Шаткин М.А. Богословские аспекты генетических экспериментов // Нива Господня. Вестник Пензенской духовной семинарии. 2018. № 1 (7). С. 97-109.
- Шишков А. Кто скрывается в тени: контуры темной экклезиологии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2021. Т. 39, № 2. С. 61-89. https://doi.org/10.22394/2073-7203-2021-39-2-61-89.
- Шнайдер Л. Гомосексуальность, квир-теория и христианская теология // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2021. Т. 39, № 2. С. 158-176. https://doi.org/10.22394/2073-7203-2021-39-2-158-176.
- Шохин В.К. Философская теология и основное богословие // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. 2014. № 1 (51). С. 57-79. https://doi.org/10.15382/sturI201451.57-79.
- Cobb J.B. Toward a Christocentric Catholic Theology // Toward a Universal Theology of Religion. N. Y., 1987. Р. 86-100.