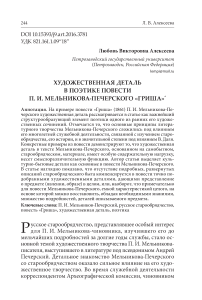Художественная деталь в поэтике повести П. И. Мельникова-Печерского "Гриша"
Автор: Алексеева Любовь Викторовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
На примере повести «Гриша» (1861) П. И. Мельникова-Печерского художественная деталь рассматривается в статье как важнейший структурообразующий элемент поэтики одного из ранних его художественных сочинений. Отмечается то, что основные принципы литературного творчества Мельникова-Печерского сложились под влиянием его многолетней служебной деятельности, связанной с изучением старообрядчества, его истории, и в значительной степени под влиянием В. Даля. Конкретные примеры из повести демонстрируют то, что художественная деталь в тексте Мельникова-Печерского, основанном на самобытном, старообрядческом, материале, имеет особую содержательную нагрузку, несет смыслоразличительную функцию. Автор статьи выделяет культурно-бытовые детали как основные в повести Мельникова-Печерского. В статье наглядно показано, что отсутствие подробных, развернутых описаний старообрядческого быта компенсируется в повести точно подобранными художественными деталями, дающими представление о предмете (явлении, образе) в целом, или, наоборот, что примечательно для повести Мельникова-Печерского, емкой характеристикой целого, на основе которой можно восстановить, обладая необходимыми знаниями, множество подробностей, деталей описываемого предмета.
П. и. мельников-печерский, русское старообрядчество, повесть "гриша", художественная деталь, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14748968
IDR: 14748968 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3781
Текст научной статьи Художественная деталь в поэтике повести П. И. Мельникова-Печерского "Гриша"
Русское старообрядчество, представлявшее особый интерес для П. И. Мельникова-чиновника, изучившего его до мельчайших подробностей за долгие годы службы, стало основной темой художественного творчества П. И. Мельникова-писателя, выступившего в литературе под псевдонимом Андрей Печерский. Детальное знакомство Мельникова-Печерского со старообрядчеством оказало сильное влияние на его художественное творчество. Во время служебной деятельности корреспондентом Археографической комиссии, чиновником особых поручений при нижегородском генерал-губернаторе, в Министерстве внутренних дел у Мельникова-Печерского сформировался принцип — познание народа, «лежа у мужика на полатяхъ, а не сидя въ бархатныхъ креслахъ въ кабинетѣ», о котором он писал в своей автобиографии1.
Личное знакомство с В. Далем сыграло не менее важную роль в творческой судьбе Мельникова-Печерского («Этотъ первостепенный знатокъ русскаго быта и уговорилъ его приняться за литературу»2). Во многом под его влиянием сложилось понимание Мельниковым-Печерским литературного творчества — подлинное творчество невозможно без глубокого знания жизни, явления, избранного в качестве изображаемого предмета. Влияние В. Даля в творчестве Мельникова-Печерского сказалось и на содержании, и на художественной форме, что отмечалось многими исследователями (П. В. Анненковым [3], З. И. Власовой [6], В. Ф. Соколовой [23], Л. М. Лотман [15, 405], М. Н. Стариковой [24], В. А. Макулиной [16], А. Л. Фокеевым [25], Н. Л. Юган [26] и др.), которые неоднократно обращали внимание на «интерес молодого писателя к быту, обычаям, поверьям, языку родного края, появление жанра этнографического романа в его творчестве» [26, 136], связь с традициями очеркового наследия В. Даля — документальную подлинность повествования, изображение быта во всех подробностях, внимание к деталям, эмоциональную сдержанность (см., напр.: [24, 46]). Перенеся эти принципы в свое художественное творчество, Мельников-Печерский применил их к материалу, не только хорошо знакомому ему по службе, но и представлявшему для него личный интерес.
В 1861 году в журнале «Современник» публикуется повесть Мельникова-Печерского «Гриша»3, основанная полностью на старообрядческом материале в отличие от других его ранних сочинений («Поярков», «Старые годы», «Медвежий угол», «Бабушкины россказни» и др.), что отражено в подзаголовке «Из раскольничьего быта». Такой подзаголовок вводил в заблуждение многих критиков-современников, а затем исследователей, ожидавших от повести подробнейшего описания старообрядческого быта и видевших в ней лишь обличение идеологии старообрядчества, между тем как повесть была сосредоточена на идее духовного поиска главного героя юноши-старообрядца Гриши. Так, Н. С. Лесков, сотрудничавший в редакции журнала «Северная пчела» с Мельниковым-Печерским, несмотря на то что считал его своим учителем, подверг резкой критике повесть в статье «С людьми древлего благочестия» (1864): «…живого раскола, его духа, его современного быта, его стремлений, нравов, и главное нравов, — мы вовсе не знаем. Мельниковский “Гриша” — это безобразие, безобразие в отношении художественном и урод по отношению к правде. Гриша никак не может назваться хорошим, то есть верным очерком раскольничьего мира…»4. А. И. Герцен отреагировал на произведение также отрицательно, поделившись своими впечатлениями от его прочтения в письме Н. В. Шелгунову 3 августа (22 июля) 1861 года: «Ну скажите, что же это за мерзость — ругать раскольников и делать урод-ливо-смешными?»5. «Гриша» был недооценен и многими исследователями XX века. Л. М. Лотман, не исключая тему духовного поиска главного героя, отмечала, что тематика повести сконцентрирована на изображении старообрядчества и старообрядческого быта, поэтому считала ее в художественном плане слабее предыдущих произведений Мельникова-Печерского [14, 209]. В. Ф. Соколова и М. М. Дунаев увидели в созданных Мельниковым-Печерским образах «ревнителей древлего благочестия» лишь изображение «неприглядной правды» о старообрядчестве, проявление крайностей религиозного фанатизма (см.: [22, 58]; [9, 336, 339, 340]). По мнению современного исследователя старообрядчества и творчества П. И. Мельникова-Печерского В. В. Боченкова, в «Грише» не был реализован тот богатейший материал о старообрядцах, собранный Мельниковым-чиновником, который детально был изложен в его «Отчете о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии» (1854) и который впоследствии нашел воплощение в художественной форме в дилогии «В лесах» и «На горах» (см.: [5, 76]).
Действительно, в «Грише» нет развернутых описаний религиозной жизни, старообрядческого быта купцов, крестьян, обитателей скитов — материала, которым в совершенстве владел признанный уже в 1840-е годы знаток старообрядчества
Мельников-Печерский. Он ограничивается лишь краткими характеристиками, деталями, обозначающими реалии старообрядческой жизни. Возможно, они были хорошо известны современникам Мельникова-Печерского, поэтому не требовали дополнительных комментариев, но малопонятны современному читателю, который может упустить их из виду. Невнимание к деталям текста, построенного на самобытном материале, может не привести к актуализации заложенных в ней автором смыслов, как следствие — неверное понимание, неточные трактовки такого сложного, неоднозначного явления, как старообрядчество, образов старообрядцев, их поведения, условий быта и т. д. Мельников-Печерский настолько верно подбирает детали, что по нескольким штрихам можно восстановить общую картину, составить цельное или дополнить имеющееся представление о предмете, образе, явлении. Для понимания произведений Мельникова-Печерского необходимо знание особенностей быта, религиозного мировосприятия старообрядцев.
Деталь в художественном тексте — «особо значимый, выделенный элемент художественного образа » [11], «выразительная подробность произв<едения>», «подробности быта, пейзажа <…>, портрета , интерьера, частной ситуации, а также жеста, субъективной реакции, действия и речи» — призвана нести значительную смысловую и идейно-эмоциональную нагрузку. В эпоху реализма XIX века художественная деталь осознавалась как «средство изображения объемности, конкретности предметного мира», служила «гарантией жизненной достоверности и художественной правды» [19, 267]. «Верность детали» — один из признаков классического реализма XIX века — стала принципом художественных текстов Мельникова-Печерского.
А. Ю. Садофьева выделяет в текстах художественной литературы такой элемент, как культурно-бытовая деталь, под которой понимает, например, «реалии, зафиксированные в словарях; историзмы; лексические единицы <…> получившие в определенную историческую эпоху дополнительное коннотативное значение», известное только носителям языка, устойчивые выражения, пословицы, поговорки, включающие слова, которые обозначают явления и понятия, свойственные определенной культуре, целые отрывки текста, описывающие традиции, обычаи, явления культуры. Исследовательница подразделяет культурно-бытовые детали на множество подгрупп, в числе которых, например, жилище, имущество, мебель, утварь, посуда; одежда, ткани, украшения и т. д.; виды труда, занятия и т. д.; народные праздники, игры и т. д.; описания традиций и обычаев и др. (см. подробнее: [20, 129, 130]). Как отмечает А. Ю. Садофьева, такие детали иногда упускаются из виду или даже игнорируются, но обладают чрезвычайной значимостью, поскольку совокупность этих элементов создает необходимый культурный фон произведения. Понятие культурно-исторической детали, на наш взгляд, может быть применимо к художественным произведениям Мельникова-Печерского, в том числе к рассматриваемой повести.
Повествование «Гриши» начинается не с рассказа о главном герое — юноше-старообрядце, который в поисках «истинной веры» совершает преступление, — а с истории некогда богатого семейства купчихи-старообрядки Евпраксии Михайловны Гусятниковой. Настоящее время, время повествователя, с позиций которого представлены события прошлого, связанного с образами Евпраксии Михайловны и Гриши, свидетельствует о полном упадке некогда богатого старообрядческого рода Гусятниковых. «Развалины большого каменного их дома» в уездном городе Колгуеве, оставшиеся представители семейства Гусятниковых — «теперешние обнищалые старики», «люди захудалые, обнищалые», «из купцов давно в мещане переписались», «молодые — в солдатство по найму ушли», «спать не ужинавши стали ложиться», ушедшие «и прежняя честь, и прежнее довольство, и прежнее житье-бытье» — емкие характеристики, используемые автором вместо подробных описаний, свидетельствуют об обнищании купеческого семейства после смерти хозяйки дома6.
Далее повествование переносится в прошлое — времена, когда семейство Гусятниковых поднималось на ноги при Ев-праксии Михайловне, оставшейся в одночасье молодой вдовой с большой семьей на руках. Мельников-Печерский отмечает в Евпраксии Михайловне такие черты, как хозяйственность, предприимчивость, определяющие ее купеческую деятельность: «…так хорошо да ладно устроила все Евпраксия Михайловна, что и мужчине не всякому так удастся» (1, 286). Эти черты роднят ее с некоторыми женскими образами сатирикобытовых повестей XVII века (напр., предприимчивая купеческая жена Татьяна из «Повести о Карпе Сутулове»).
Мельников-Печерский выделяет в образе Евпраксии Михайловны и другую немаловажную составляющую — духовную. В ее образе отчетливо проступают житийные традиции — религиозность, скитское мировоззрение, добродетельность, вера в Священное Писание: «…почтена была за жизнь строгую, подвижную. Правдой жила: много потаенного добра творила она, много раздала тайной милостыни, и на смертном одре поднесла господу три дара: первый дар — ночное моленье, другой дар — пост-воздержанье, третий дар — любовь-добродетель» (1, 286). Говоря о религиозности Евпраксии Михайловны, исследователи, как правило, ограничиваются упоминанием о приверженности семейства Гусятниковых к старой вере (см.: [4, 124–125]; [8, 141]; [12, 20]; [18, 24]). Однако Мельников-Печерский гораздо конкретнее определяет их религиозную принадлежность: «…и сама она с детками “по древлему благочестию” пребывала. Только были они не злой какой секты, а по беглому священству — по Рогожскому, значит, кладбищу» (1, 288). Принадлежность хозяйки купеческого дома Ев-праксии Михайловны поповскому старообрядчеству во многом определяет ее религиозное и бытовое поведение, несмотря на отсутствие развернутых характеристик.
Образованное в 1771 году Рогожское кладбище в Москве являлось крупным духовным центром Рогожского старообрядческого общества, т. е. поповского старообрядчества Белокриницкого согласия, к которому издавна принадлежали многие богатые купцы, а с 1853 года и центром старообрядческой архиепископии Московской и всея Руси. Как отмечает проф. С. А. Зеньковский, слово «кладбище» служило прикрытием для активных форм организации старообрядчества в период усилившихся гонений на него в XIX веке. При кладбище строились часовни, которые развивались в храмы, при часовнях — богадельни, становившиеся центрами религиозной жизни старообрядцев — монастырями [10, 426]. Рогожское старообрядчество было инициатором учреждения Белокриницкой (австрийской) иерархии, поддержанной не всеми старообрядцами (беглопоповцы по-прежнему принимали беглых попов). Подробной истории Рогожского кладбища, его устройства, его деятелям Мельников-Печерский посвятил главу «Рогожское кладбище» «Очерков поповщины» (7, 403–449).
Исторические, историко-публицистические сочинения Мельникова-Печерского являются документальными источниками, дополняющими его художественные тексты статистическими, историческими, религиозными, этнографическими, бытовыми подробностями. Так, например, по небольшому отрывку из повести, посвященному хозяйственному устройству усадьбы Гусятниковых, складывается представление об обширной купеческой деятельности хозяйки дома, что подчеркивается такими деталями: «…тут стояли заводы кожевенны, салотопны, свечной, клееварный, тут же кошму из шерсти валяли, овчины выделывали», «…одних работников что тут жило? <…> По задворью, по огороду, по всему широкому усаду день-деньской народ так и снует , так и кишит , так и носится роем . С раннего утра до поздней ночи с тоном стоят голоса …» (курсив мой. — Л. А. ) (1, 289). Зажиточность и успех купеческой деятельности Евпраксии Михайловны, которая умело управляла хозяйственными и торговыми делами, в «Отчете» Мельникова-Печерского объясняется менталитетом, присущим старообрядцам: «Чрезвычайно рѣдко встрѣчается въ Нижегородской губернiи раскольникъ вялый и неповоротливый; самая лѣнь, столь свойственная человѣку русскому, въ раскольникѣ замѣтна несравненно менѣе, чѣмъ въ православныхъ крестьянахъ <…>. Отъ того то раскольники почти всѣ дѣятельны, а отъ дѣятельности зажиточнѣе»7. Менталитет купеческого старообрядчества, по замечаниям некоторых исследователей (Л. Н. Галимовой, В. С. Михайлова), формировался не только стремлением к благополучию или религиозной трудовой этикой старообрядцев, но, преимущественно, политикой гонений со стороны государства, в особенности экономического давления в виде больших налогов, вопреки которому старообрядцы усиливали свою предпринимательскую активность (см.: [7, 26]; [17, 1271]).
Другой пример: в повести «Гриша» отсутствует описание старообрядческого дома, но принадлежность семейства Гусятниковых к поповскому старообрядчеству дает представление о внутреннем убранстве дома. Так, в «Отчете» Мельникова-Печерского обозначены признаки, отличающие дом старообрядца поповского согласия: множество икон, не только старинных, но и новых, причем у старообрядцев-по-повцев есть иконы «Седмица» и «Церковь Христова», каких нет у других толков и согласий; незанавешенный киот или божница; между иконами находится медное распятие и Деи-сус в трех поясных иконах (т. е. изображение фигур в пределах линии пояса или несколько ниже); за иконами может находиться тайник с кусочками антидора (части просфоры, раздаваемой в конце литургии)8. Иконы в поповской моленной обыкновенно расставлены по полкам задней стены, чтобы главная икона находилась по центру стены, а не в углу9.
Наличие у старообрядцев моленной, краткая характеристика которой дается в повести (при отсутствии описания самого дома, кроме упомянутых в начале оставшихся «развалин большого каменного их дома» и строений, занимавших целый квартал (1, 285)), было признаком богатого дома: «Вся передняя стена (в «Отчете» — задняя. — Л. А. ) уставлена древними, богато украшенными иконами; под ними висят дорогие пелены: парчовые, бархатные, золотом шитые, жемчугом низанные. Перед иконами ослопные свечи, негасимые лампады…» (1, 296). Детали этого описания: богато украшенные иконы и пелены из дорогих тканей, вышитые золотом, — свидетельствуют о зажиточности Гусятниковых.
Моленные, располагавшиеся либо в самом доме, либо в отдельных строениях (кельях), устраивались богатыми старообрядцами с определенной целью: в них часто проживали монахи, скитницы, канонницы, наставники, находили себе приют странники или беглые старообрядцы10. Речь идет о традиции странноприимства (страннолюбия), т. е. приеме в свой дом богомольцев и странников, предоставлении им ночлега и пищи, что считалось богоугодным делом и предписывалось всем верующим, но позволить себе мог не каждый11. Таким образом, наличие моленной у старообрядческого купеческого семейства указывает также на странноприимство хозяйки дома Евпраксии Михайловны, о котором в тексте повести говорится не раз (1, 286, 293). Однако известно, что странноприимцами («пристанодержателями», «жиловыми») в старообрядчестве назывались представители страннического толка беспоповского согласия, которые давали пристанище другой категории странников — «мироотреченцам» (отрешившимся от мира, странствующим) — и находились на легальном положении, в отличие от странствующих [13, 564]. В случае с Евпраксией Михайловной следует говорить о добродетели странноприимства, учитывая принадлежность героини к поповскому старообрядчеству, тем более что образ жизни, бытовое поведение старообрядцев страннического толка, определявшиеся строгим учением, сильно отличались. Добродетель странно-приимства, присущая хозяйке дома Евпраксии Михайловне, подчеркивается на протяжении всего повествования такими эпитетами, как «сердобольная», «страннолюбивая», «многомилостивая» и др., становящимися устойчивыми в ее характеристике. Милостивое отношение Евпраксии Михайловны к любому ищущему пристанища и пищи без различия согласий и толков («Кто ни брякнет железным кольцом о дубовую калитку страннолюбивой вдовицы, кто ни возвестит о себе именем Христовым, всякому готов теплый угол, будь раскольник, будь единоверец, будь церковник — все равно, отказу никому не бывало» (1, 293)) подтверждает ее принадлежность к старообрядцам поповского согласия. Мельников-Печерский был убежден в том, что поповское старообрядчество едва ли может считаться «расколом», поскольку не противоречит истинам православной веры12. Этим объясняется то, что старообрядцы-поповцы были открыты каждому приходящему «христолюбцу», в отличие от других согласий и толков.
Другая немаловажная деталь, используемая для характеристики образа Евпраксии Михайловны — сундук с деньгами, хранящийся в моленной (1, 321). В «Отчете» Мельников-Печерский приводит тот факт, что в небольших старообрядческих моленных могли находиться принадлежности житейского быта (сундуки, платье и др.) из-за тесноты в доме, поэтому моленная напоминала обычное домашнее помещение. Но в начале повести оговорены немалые размеры строений Гусятниковых (строения, занимавшие целый квартал, и большой каменный дом), поэтому, скорее всего, Мельников-Печерский намеренно делает акцент этой деталью на двойственности характера героини, для которой денежные интересы не менее важны, чем религиозные. Это подтверждает финал повести: пропажа сундука с деньгами из моленной приводит к трагическим последствиям: «Дня через три хоронили Евпраксию Михайловну — умерла в одночасье» (1, 322).
Страннолюбие Евпраксии Михайловны и необходимость присматривать за моленной, помогать приходящим богомольцам и странникам побуждает ее взять в помощники круглого сироту-старообрядца Гришу. Принадлежность его, как и семейства Гусятниковых, к «древлему благочестию» подчеркивается такими деталями в его характеристике: «А был он из “записных” — из самых, значит, коренных — деды, прадеды его двойной оклад платили, указное платье с желтым козырем носили, браду свою пошлиной откупали» (1, 287–288). Ношение на спине красно-желтого козыря, т. е. лоскута, было вменено в обязанности старообрядцам еще при Петре I и служило их отличительным признаком, попытка снять который жестоко преследовалась (см.: [2]). Запись старообрядцев в двойной оклад, обеспечивавшая им свободное гражданское существование, также велась издавна, с введения указа 1714 года. Некоторым старообрядцам, в основном купеческого сословия, двойной оклад был выгоден, поскольку давал возможность, получив оседлость, свободное гражданское существование, развивать свою торговлю, налаживать связи с чиновниками, правительственными лицами, подкупая их своим богатством13. Однако введение двойного оклада способствовало обострению отношений старообрядцев с властью, загоняя их в ловушку (перепись старообрядцев с целью включения в двойной оклад) (см. подробнее: [2]). Впоследствии указами императрицы Екатерины II двойной оклад был уничтожен, разрешено было носить платье и бороду без желтого козыря. Указанные признаки свидетельствуют о принадлежности Гриши к древнему старообрядческому роду, имеющему многовековую историю.
Можно предположить, что келейник Гриша принадлежит к спасовскому беспоповскому толку (нетовщине), на что указывает такая деталь в повествовании: в моменты душевных смятений он читает «Скитское покаяние»14, которое входило в обязательный круг чтения спасовцев и должно было быть в моленной15. Эта деталь появляется в тексте несколько раз (1, 291, 292). По замечанию Е. А. Андреевой, «в случае употребления детали целенаправленно в двух и более эпизодах можно утверждать о создании подтекста, который <…> способствует актуализации импликативных потенций детали» [1, 51]. Со «Скитским покаянием» связаны несколько стадий борьбы Гриши с греховными помыслами. Некоторое время он пытается отчаянно сопротивляться искушению, «истово лестовку перебирая», «бессчетно кладя земные поклоны», читая «Скитское покаяние» (1, 291). Постепенно силы его в борьбе ослабевают: «…шепчет Гриша, глядя в “Скитское покаянье”, но слова звучат без участья ума — помыслы мятежного, полного прелестей мира восстают перед ним в обольстительных образах, и таинственный голос несется из глубины замирающего сердца…» (1, 291). Душевное смятение Гриши выражено в виде диалога двух голосов — голоса самого юноши, читающего молитву из «Скитского покаяния», и внутреннего голоса, склоняющего его ко греху. Наконец из рук обессилевшего Гриши выпадает лестовка и «Скитское покаяние», а в душную келью врывается свежий майский воздух и звуки девичьих песен и хоровода, что символизирует победу греха над юношей-келейником (1, 292).
В финале повести Гриша под влиянием Ардалиона, внушившего ему учение страннического толка, совершает переход в «правую веру», приняв новое крещение и имя Геронтий. Учение, которое проповедует Ардалион (учение об антихристе, необходимости отречения от отца, матери, дома, безбрачии, о спасении бегством и спасении «в пещерах, в вертепах, в пропастях земных», неприятии видимых знаков антихриста — гражданских повинностей, денег), позволяет отнести его к странникам-бегунам, отличавшимся самым строгим аскетизмом (см.: [26])16. Переход Гриши в новую веру знаменует его окончательное падение.
Художественная деталь в повести П. И. Мельникова-Печерского «Гриша» организует внутреннее пространство текста в единую систему, все элементы которой находятся в сложном взаимодействии и ориентированы на передачу авторского замысла. Художественная деталь несет особую содержательную нагрузку в повести ввиду специфики материала, лежащего в ее основе. Характерной особенностью рассматриваемого произведения является использование преимущественно культурно-бытовых деталей и раскрытие посредством художественной детали не только целого (образа, предмета, явления)
через его части, но и, наоборот, через емкую характеристику целого — множество подробностей, его составляющих, т. е. создание комплекса ассоциативных связей (образы старообрядцев: особенности поведения, внешнего облика, занятий; быт старообрядцев: условия быта, его детали, предметы и т. д.). Художественная деталь у Мельникова-Печерского имеет высокий содержательный потенциал, передавая незначительные признаки образа, предмета, явления, имеющие отношение к старообрядчеству, но приобретающие исключительное значение для его понимания. Невнимание к художественным деталям повести Мельникова-Печерского, посвященной старообрядчеству, может привести к неполной или неверной трактовке самобытного материала, лежащего в ее основе.
Примечания
*
Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России «Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности XIX–XX веков» (№ 34.1126).
-
1 Сборникъ Нижегородской Ученой Архивной Комиссiи въ память П. И. Мельникова (Андрея Печерскаго). Н.-Новгородъ: Типо-Лит. Т-ва И. М. Машистова, 1910. Т. IX. Ч. 1. С. 77.
-
2 Сборникъ Нижегородской Ученой Архивной Комиссiи… С. 82.
-
3 Современникъ. Т. LXXXVI (3–4). Санктпетербургъ: въ Типографiи Карла Вульфа, 1861. С. 7–40.
-
4 Лесков Н. С. С людьми древлего благочестия // Лесков Н. С. Полн. собр. соч.: в 30 т. М.: Терра, 1996. Т. 3. С. 569.
-
5 Герцен А. И. Письма 1860–1864 гг. // Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М.: Наука, 1963. Т. 27. Кн. 1. С. 167.
-
6 Мельников П. И. Собр. соч.: в 8 т. М.: Правда, 1976. Т. 1. С. 285. Далее ссылки на это издание приводятся с указанием тома и страницы в круглых скобках.
-
7 Мельниковъ П. И. Отчетъ о современномъ состоянiи раскола въ Нижегородской губернiи // Сборникъ Нижегородской Ученой Архивной Комиссiи… Т. IX. Ч. 2. С. 259.
-
8 Там же. С. 264.
-
9 Там же. С. 266.
-
10 Там же. С. 264.
-
11 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1980. Т. 4. С. 336.
-
12 См.: Мельниковъ П. И. О русскомъ расколѣ // Сборникъ правитель-ственныхъ свѣденiй о раскольникахъ / сост. В. И. Кельсiевъ. Лондонъ, 1860. Вып. 1. С. 169–170.
-
13 Щаповъ А. П. Русскiй расколъ старообрядства, рассматриваемый въ связи съ внутреннимъ состоянiемъ Русской Церкви и гражданственности въ XVII вѣкѣ и въ первой половинѣ XVIII вѣка: Опытъ историческаго исследованiя о причинахъ происхожденiя и распространенiя раскола. Казань: Изд. книгопродавца Ивана Дубровина, 1859. С. 283–284.
-
14 «Скитское покаяние» — памятник русской духовной литературы, появившийся в рукописной традиции приблизительно в конце XV — нач. XVI вв. Это покаянная молитва к Богу, предназначенная для келейного употребления, а потому она использовалась преимущественно монахами-отшельниками. В начале XVII века памятник вышел из обихода официальной церкви, не попав в печатные богослужебные книги, но закрепился в старообрядческой традиции, где сохранился практически без изменений и стал общеупотребительным: у беспоповцев — в качестве устава самоисповеди, у остальных согласий и толков — как очистительная молитва и приготовление к Святому Причастию (см.: [21, 179, 181, 184]).
-
15 См.: Мельниковъ П. И. Отчетъ о современномъ состоянiи раскола… С. 266.
-
16 См.: Христианство: Энциклопедический словарь / под ред. С. С. Аверинцева: в 3 т. М.: Большая Российская энциклопедия, 1993–1995. Т. 2. 1995. С. 642–643.
Список литературы Художественная деталь в поэтике повести П. И. Мельникова-Печерского "Гриша"
- Андреева Е. А. Функциональная нагрузка художественной детали в тексте//Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук: сб. науч. тр. ежегодной межрегиональной научно-практической конференции/отв. ред. В. В. Федоров, Р. И. Паровик. -Петропавловск-Камчатский: Камчатский гос. ун-т им. Витуса Беринга, 2016. -С. 51-54.
- Анисимов Е. В. Императорская Россия. -СПб.: Питер, 2011 . -URL: http://storyo.ru/empire/40.htm (15.08.2016).
- Анненковь П. В. Романы и разсказы изь простонароднаго быта//Анненковь П. В. Воспоминанiя и критическiе очерки: Собранiе статей и замѣтокь П. В. Анненкова. -СПб., 1879. -Отд. II. -С. 17-38.
- Баланчук О. Е. Циклизация как принцип поэтики П. И. Мельникова-Печерского (на материале произведений 1840-1860-х гг.). -Йошкар-Ола: МГПИ, 2007. -144 с.
- Боченков В. В. П. И. Мельников (Андрей Печерский): Мировоззрение, творчество, старообрядчество. -Ржев: Маргарит, 2008. -348 с.
- Власова З. И. П. И. Мельников-Печерский//Русская литература и фольклор (2 п. XIX века). -Л.: Наука, 1982. -С. 94-130.
- Галимова Л. Н. Особенности менталитета купца-старообрядца//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. -2011. -№ 3. -С. 26-33.
- Гневковская Е. В. Проблема выбора жизненного пути. (Повесть П. И. Мельникова-Печерского «Гриша» и драматический эпизод «Странник» А. Н. Майкова)//Ученые записки Волго-Вятского отделения Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры. -Н. Новгород: Изд-во Нижегород. ун-та, 2000. -Вып. 14. -С. 141-146.
- Дунаев М. М. Мельников-Печерский//Дунаев М. М. Православие и русская литература. -М.: Храм Св. мученицы Татианы при МГУ, 2002. -Ч. 3. -С. 329-365.
- Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: в 2 т. -М.: Ин-т ДИ-ДИК, Квадрига, 2006. -688 с.
- Кормилов С. И. Деталь//Литературная энциклопедия терминов и понятий/под ред. А. Н. Николюкина. -М.: НПК «Интелвак», 2001. -Стб. 220.
- Кудряшов И. В. Проблема духовной самоидентификации в русской литературе второй половины XIX века: аксиология национальной жизни. -Арзамас: Изд-во АГПИ, 2007. -212 с.
- Лещинский А. Н., Лещинский Л. А. Истинно-православные христиане странствующие, бегуны, подпольники, сопелковцы, странники//Энциклопедия религий/под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. -М.: Академически проект; Гаудеамус, 2008. -С. 564-565
- Лотман Л. М. Мельников-Печерский//История русской литературы: в 10 т. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. -Т. 9: Литература 70-80-х годов. -Ч. 2. -С. 198-227.
- Лотман Л. М. Роман из народной жизни. Этнографический роман//История русского романа: в 2 т. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1964. -Т. 2. -С. 390-415.
- Макулина В. А. П. И. Мельников и В. И. Даль: Творческое взаимодействие//Три века русской литературы. Актуальные аспекты изучения. -М., Иркутск: ИГПУ, 2005. -С. 114-123.
- Михайлов В. С. Этнокультурное предпринимательство как стимул развития экономики (на примере старообрядческих общин в Российской империи)//Вестник Башкирского университета. -2014. -Т. 19. -№ 4. -С. 1270-1272.
- Прокофьева Н. Н. Мельников-Печерский//Литература в школе. -1999. -№ 7. -С. 21-26.
- Путнин Ф. В. Деталь художественная//Краткая литературная энциклопедия. -М.: Сов. энциклопедия, 1978. -Т. 9. -Стб. 267-268.
- Садофьева А. Ю. Культурно-бытовая деталь//Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. -2008. -№ 2. -С. 129-136.
- «Скитское покаяние» в русской духовной традиции/публ. А. Е. Петрова//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. -1997. -Вып. 1. -С. 179-192.
- Соколова В. Ф. П. И. Мельников (Андрей Печерский): Очерк жизни и творчества. -Горький: Волго-Вятское книж. изд-во, 1981. -191 с.
- Соколова В. Ф. Народознание и русская литература XIX века. -М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. -С. 114-118.
- Старикова М. Н. П. И. Мельников-Печерский и В. И. Даль: (П. И. Мельников-Печерский в истории русского романа)//Художественное творчество и взаимодействие литератур. -Алма-Ата, 1985. -С. 43-51.
- Фокеев А. Л. В. И. Даль и П. И. Мельников-Печерский: творческие контакты//В. И. Даль в мировой культуре: сб. науч. работ. -Ч. 2. -Луганск; Москва: Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2012. -С. 62-75.
- Юган Н. Л. Образ народа в прозе В. И. Даля, Д. В. Григоровича, П. И. Мельникова-Печерского//Вестник ЛНУ им. Тараса Шевченко. -2013. -№ 4 (264). -С. 51-61.