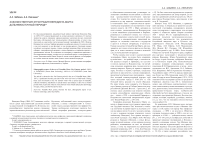Художественная этнография Венедикта Марта: дальневосточный период
Автор: Забияко Анна Анатольевна, Левченко Анна Александровна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Язык и пространство прекрасного
Статья в выпуске: 4 (30), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается дальневосточный период творчества Венедикта Марта (1896-1937), реконструируемый на основе архивного материала. В генезисе творчества нашли отражение дореволюционное увлечение русских писателей Востоком, собственный опыт этнокультурного общения автора, а также «эмигрантский» и «советский» тексты художественной этнографии. До 1923 г. Март во Владивостоке и затем в Харбине развивался в свободном поиске. Он испытал себя и как поэт-декадент, и как футурист, и как прозаик-реалист. Благодаря знанию китайского и японского языков, а тают® семейной традиции Март путешествует, собирает этнографический материал, а затем обращается к переводам древних и средневековых текстов. В его арсенале и стилизации, и лирические зарисовки, и беллетризованные очерки, и повести в духе китайской прозы, и стихотворные легенды. Дальневосточный багаж Марта не только остался фактом его биографии, но и помог писателю сказать новое слово в отечественной литературе.
В. март, поэзия, дальний восток, художественная этнография, китайская мифология, повседневность, харбин
Короткий адрес: https://sciup.org/170175540
IDR: 170175540 | УДК: 82
Текст научной статьи Художественная этнография Венедикта Марта: дальневосточный период
Венедикт Март (1896-1937) занимает особое место среди представителей дальневосточной художественной этнографии [13]. В генезисе его разнообразного творчества нашли отражение дореволюционное увлечение русских писателей
Востоком, собственный опыт этнокультурного общения, а также «эмигрантский» и «советский» тексты художественной этнографии [14]. Такому необычному сочетанию писатель был обязан географии рождения, этнокультурным и общественно-политическим установкам, заложенным семейным воспитанием и собственным художественно-эстетическим пристрастиям. Его творчество можно вполне логично разделить на два периода: «дальневосточный» и «советский». Они - в прямом смысле хроно-топические координаты его жизненного и творческого сюжета. До 1923 г. Март, невзирая на свои «левые» умонастроения во Владивостоке и затем нищенское существование в Харбине, развивался в свободном поиске. Его отъезд в Москву знаменовал совсем иной способ идентификации и самореализации, зависящий напрямую от политики советского государства в целом и в области литературы, в частности. Однако дальневосточный багаж Марта, как оказывается, не только остался фактом его биографии, но и помог писателю оставить заметный след в отечественной литературе.
Чтобы сказать свое слово в художественной этнографии, Марту не нужно было совершать путешествия - по крайней мере, в молодости. Он родился и вырос в Приморье, его детство и юность прошли во Владивостоке, где китайская, японская, корейская речь звучала почти в каждом квартале. Прислуга, прачки и парикмахеры, богатые и мелкие торговцы, владельцы притонов и проститутки, хозяева опиекурилен, представители бандитских группировок - таков был пестрый социокультурный портрет этой части населения города в 1910-20-е гг. «По большей части, русские эту землю обрусили. Но даже теперь легко поверить, что Вавилонскую башню строили в Сибири [имеется в виду российский Дальний Восток. - прим.автД, поскольку здесь слышишь тьму языков и видишь великое разнообразие национальных обычаев», - писал в 1920 г. посетивший Приморье и Владивосток известный американский журналист Коуди Марш [35, с. 230-235].
География рождения Венедикта Марта совпала с фамильными культурными ориентирами: будущий писатель был воспитан в семье, где увлечение историей края и ее изучение стояли на первом месте. Если не с молоком матери, то уже с первыми звуками отцовского голоса маленькому Венедикту был привит интерес к восточной культуре: отец Марта Н.П. Матвеев родился в Хакодате (Япония), в семье фельдшера духовной миссии, «став первым русским ребенком, появившимся на свет на японской земле», к тому же выросшим под присмотром японской кормилицы [49, с. 212]. Для Николая Матвеева японский язык - второй родной [4, с. 8]. Он был известным журналистом и краеведом, прославившимся как автор первой, до сих пор не утратившей своей актуальности, «Истории города Владивостока», прославился и как поэт Н. Амурский.
Интерес отца, Н.П. Матвеева, к краеведению протекал в общем русле развития дальневосточной этнографии, поощряемого российским государством в переломное для истории страны и общества время. Вторая половина XIX - начало XX вв. характеризовались небывалым подъемом экспедиционно-исследовательской деятельности под руководством Российской академии наук и Русского географического общества (А.Ф. Миддендорф, Р.К. Маак, Л.И. Шренк, К.И. Максимович, Ф.Б. Шмидт, И.С. Поляков, Л.Я. Штернберг, Б.О. Пилсудский и др.). В 1884 г. было создано Общество изучения Амурского края, снаряжен ряд научных экспедиций в труднодоступные районы Приморья, Южно-Уссурийского края, на Амур, остров Сахалин, побережья Японского и Охотского морей [39]. Геополитические интересы империи стимулировали научные изыскания Н.М. Пржевальского, а затем - вдохновленных им В.К. Арсеньева, Н.А. Байкова, П.В. Шкуркина. Работа Арсеньева «Китайцы в Уссурийском крае» (1914) и дважды переизданная более чем 400-страничная книга Н.А. Байкова «В горах и лесах Маньчжурии» (1914; 1915) становятся бестселлерами далеко за пределами Приморья. Десятые годы XX в. знаменовали начало уже собственно художественного освоения писателями-путешественниками культурных, религиозных, психологических установок, нравственно-этических норм, особенностей обустройства быта разнообразных этносов, населяющих пространства Дальнего Востока (китайцев, японцев, корейцев, удэгейцев, эвенков, и т.д.), того, что мы называем художественная этнография [12].
До революции Н.П. Матвеев около пятнадцати раз самостоятельно ездил в Японию. Интерес к этой стране и её народу был профессиональным - с 1896 г. он вступил в Общество изучения Амурского края, в 1898 г. стал его секретарем, а в 1901 г. - действительным членом [41, с. 375-391]. После октябрьских событий он принимает решение эмигрировать в Японию с женой и младшими детьми. Там Матвеев продолжил занятия журналистикой, стал представителем журнала «Русский Дальний Восток» в Осаке, писал статьи, издавал детские книги [50, с. 19-24], а также знакомил российских эми- грантов с наиболее известными достижениями этой страны [43, с. 83]. Потому в своих заметках для журнала «Рубеж» Матвеев обращался к обычаям самих японцев, к проблемам мусульман и православных в Японии, традиционного воспитания детей и звероводства, к адаптации русских и восприятию русской культуры и литературы японцами, жизни японских айнов, и т.д.
Стиль очерков Н.П. Матвеева выдает в нем продолжателя «знаньевской» традиции, берущей, в свою очередь, начало в натуралистических очерках середины XIX в. Это и неудивительно: наряду с культивируемым в семье интересом к этносам и культурам Дальнего Востока клан Матвеевых исповедовал народно-демократические ценности. Н.П. Матвеев увлекался революционными идеями, даже преследовался царской полицией за распространение нелегальной литературы и бывал арестован. Не случайно крестным В. Марта стал ссыльный отец Д. Хармса И. Ювачев. Все это наложило отпечаток на революционную настроенность старших сыновей Матвеевых -ив политике, и в искусстве. Тем более что в 1920-е годы на короткое время эти две стихии счастливо совпали, что определенным образом сказалось и на генезисе творческого пути одного из старших сыновей, Венедикта.
Детство Марта протекало в атмосфере семейного увлечения литературными опытами. Каждый из детей уже прославившегося отца пробовал себя в написании стихов, которые они размещали в домашнем журнале «Мысль». За несколько лет было исписано два толстых тома [10, с. 269]. Первые опусы гимназиста Венедикта Матвеева появились в 1913 г., а дебютный сборник стихов «Порывы» под именем «В. Марьин» был издан в 1914 г. в типографии отца (на первой странице надпись: «Мои первые юношеские стихотворения посвящаю дорогому отцу») [36, с. 3]. Об этой книжке вспоминал старший брат поэта Н.П. Матвеев-Бодрый: «Распространение шло без какой-либо предварительной подписки, и сборник вскоре же вошел в категорию “библиографических редкостей”» (Архив Н.П. Матвеева-Бодрого // Хабаровский краевой музей, далее - ХКМ. Ф. 10. On. 1. Д. 723).
Таким образом, в творчестве Марта наблюдается, с одной стороны, безмерное уважение к отцу и авторитет проповедуемых им ценностных установок. А с другой (по аналогии с Д. Хармсом, всячески отталкивающим морализаторские установки отца Ювачева-Миролю-бова) - стремление выразиться совсем иным способом, чем позитивист-отец, и склонность к одиозным поступкам и аффектации. Пространство художественных увлечений Марта юных лет - модернизм в его декадентском изводе: мрачные предсмертные и даже «загробные» настроения (сборник «Мартелии» и др.), преобладание черного цвета (стихи «Черная тщета», «Черная грозная ночь» и т.д.), декадентская символика и при этом - эстетизация Востока. В 1914 г. Март выехал в Москву, затем по 1918 г. пребывал в Петербурге и его окрестностях - возможно, учился в каком-либо заведении, возможно, общался со столичной богемой (сведений о чем, к сожалению, нет). О значимости этого периода для художника мы можем судить по сборникам, вышедшим уже во Владивостоке: «Черный дом» [34], «Черный хрусталь» [34], «Лепестки сакуры» [27], «Пе-сенцы» [30], стихотворения которых сопровождаются датировкой и указанием места написания: «Дар Мака» (СПб., 22 ноября 1915 г.) [34, с. 9], «Ночью» (СПб., 31 января 1916 г.) [34, с. И], «Белая Земля» (СПб., 1 мая 1917 г.) [34, с. 15] и др. В архиве сохранилась фотография Марта 1916 г. в военной форме - очевидно, он был мобилизован в годы Первой мировой, однако ничего не известно об участии писателя в этих событиях.
В марте 1918 г. Март подготовил рукописный вариант сборника «Русь - кровь моя», где в заметке «От автора» писал: «В эту книгу вошли стихи, созданные в угарные годы войны и святые Дни Революции. Стихотворения эти весьма незакончены, некоторые - грубо отрывочны, но я не хотел работать над ними, ибо -
«Померкло солнце днесь!»
-
- «И слову не сиять!»
-
- ибо нет Форм и Слова неизжитому текущему. Все же выпускаю эту книгу
Ради безграничной веры своей в Русь, Ради Слова Востока,
Ради смутного Духа тая душой»75.
Итак, наблюдается: символистская нагру-женность слов смыслами, вольные цитаты из Священного Писания; при этом - рваный син- таксис, внимание к «Форме» и «Слову», «неизжитому текущему», загадочному «Слову Востока» (образ не случаен; повторится затем уже в танка собственного сочинения); полное приятие революции и - апелляция к «смутному Духу». Налицо - воплощенная эклектика, предтеча авангардистских изысков. В общем, Март (постоянно семантизирующий свой псевдоним -ив символистском ключе: «жду марта», и в футуристическом: «Мартелии», и т.д., вплоть до абсурдистских датировок своих сочинений исключительно мартом) весьма органично вписался в фантасмагорическую владивостокскую атмосферу.
Культурная и литературная жизнь Владивостока тех лет была необыкновенно насыщенна и интенсивна. Революционная сумятица и последующее буферное положение Дальневосточной Республики всемерно способствовали тому, что начиная с 1920-х гг. город представлял собой «бурно кипящий творческий котел» (В. Марков). Владивосток стал прибежищем для многих писателей и художников, спасающихся от лихолетья, голода [26]. Причем это были люди, зачастую принадлежащие к враждующим политическим лагерям: в эти годы во Владивостоке бок о бок работали А. Несме-лов, Вс.Н. Иванов, Н. Чужак, Л. Ещин, приезжал из Харбина Скиталец. Среди направлений господствовал, конечно, футуризм. В 1920 г. под руководством Н. Насимовича-Чужака во Владивостоке было создано литературное общество «Творчество», издавался одноименный журнал. А затем сюда перебрался предприимчивый и дальновидный «отец русского футуризма» Давид Бурлюк. Одна из местных газет тех лет писала после его приезда: «Тут уже целая армия деятелей всех видов искусства и течений, которые со всех концов волею судеб причалили к берегам Великого Океана...» [53]. Тесное содружество художников и поэтов всех направлений (С. Третьякова, Н. Асеева, Д. Бур-люка, В. Марта, Я. Варшавского, А. Зиновьева, В. Пальмова и др.) способствовало работе театра-кабаре («Би-Ба-Бо»), ЛХО (литературно-художественного общества) и одноименного кафе («Балаганик»), открытию всевозможных выставок, конкурсов (литературных, драматических и художественных), провоцировало бесконечные словесные баталии о будущем искусстве.
Если судить по публикациям Марта той поры, то футуризм его (и символизм) был немного «доморощенный» - сказывалась, оче видно, провинциальная почва, на которой он возрос. Надо признать четко и определенно: несмотря на несомненный интерес к словотворчеству, визуализацию образов, заумь, футуристические опыты, равно как и символистско-абсурдистские, Марту не удавались. Читать его «Изумрудные черви» (1919), «Мартелии» (1918) и т.д. невозможно. В этих текстах соединились аллюзии на Э. По, символистскую прозу Белого и Сологуба, лирику Кузьмина и т.д. Создается впечатление, что человек, не лишенный филологического запала и склонный к ритмизации, фиксирует свои ночные кошмары либо наркотические фантазии в момент их острого переживания:
«Я растерзал ночь. Черные клочья я расшвырял по углам комнаты...
Но за окном!!!
Она давилась в стекла!
Упорная мгла просочилась черной кровью в стекла!.. У подоконника - на полу запекалась. Черное пятно - лужа мглы!
Я смыл и это пятно: Смыл лучами свечи. Поставил свечу на подоконник!
Язык желтый лизал фитиль и мглу заоконную.
Трепетали в углах скомканные клочья ночи.
Уязвленно и пытливо моргали углы комнаты... Вдруг раскрылась дверь.
Вошла тусклая Пустыня...» (и т.д.)
[29, «Слезы черные», с. 3]
Не стоит удивляться тому, что на футуристическом поприще Март не снискал себе славы. Более того - даже позднее заработал скептическое отношение у более успешных в этой области писателей. Так, в романе К. Вагинова «Козлиная песнь», написанном в 1927 г. и посвященном не нашедшим себя в новой советской реальности писателям, весьма саркастически оцениваются футуристические потуги поэта Сентября (под которым выведен в карикатурном виде не кто иной, как Март, перебравшийся недавно из Харбина в Москву): «В общей ритмизованной болтовне изредка попадались нервные образы, но все в целом было слабо» [3, с. 45-50]. Здесь же приводятся образчики этой поэзии и «комментарии» самого Сентября-Марта:
«Весь мир пошел дрожащими кругами,
И в нем горел зеленоватый свет.
Скалу, корабль и девушку над морем
Увидел я, из дома выходя.
По Пряжке, медленно. За парой пара ходит, И рожи липкие. И липкие цветы.
С моей души ресниц своих не сводят Высокие глаза твоей души.
«Я написал это стихотворение, - снова заходил Сентябрь по комнате, - еще до выхода из лечебницы. Я его тогда понимал, но теперь совсем не понимаю. Для меня это, сейчас, набор слов».
Вагинов гиперболизирует недоученность Сентября, умножая недостаток образования на безумие: «Я кончил только четырехклассное городское училище, затем я сошел с ума. По выходе из больницы стал писать символистические стихи, ничего не зная о символизме. Когда, затем, мне случайно попались рассказы По, я был потрясен. Мне казалось, что это я написал эту книгу; я только недавно стал футуристом».
Очевидно, в этих репликах Сентября-Марта - отзвуки его питерских откровений о владивостокской юности. Если посыл Вагинова с необразованностью у Сентября нужно поделить на откровенно субъективное отношение к Марту (личная неприязнь, возможно - зависть) и роль художественной условности (так, мол, требовала логика создания образа, за которым не следует искать прямых соответствий с прототипом), то на некоторые детали образа Сентября обратить внимание следует. Тот же Вагинов (правда, в травестированном виде) подмечает и «экзотизм» Сентября-Марта (в книге он приехал из Тегерана, а ходит в сапогах и косоворотке). Очевидно, в среде питерской-ленинград-ской творческой интеллигенции Март все же выделялся своей «инокультурной ориентированностью» (правда, косоворотки он не носил, но дома ходил в восточном халате и китайской шапочке). На наш взгляд, такая «китайскость» была не просто внешним качеством. Об этом сразу после его появления в Москве стали говорить советские критики. В 1924 г. А. Киржниц писал: «... Камышнюк и Март великолепно знают Японию и Китай». А также упоминал о том, что «...Венедикт Март, давший в первые годы своей деятельности ряд ярких и красочных произведений», имел в своем художественном арсенале и «прекрасную поэму из жизни японской девушки» (возможно, имеется в виду произведение «Лепестки сакуры» (Владивосток, 1920) [20, с. 44-45].
Культура и литература Китая и Японии были близки Марту в первоисточниках. Отцовский авторитет сыграл решающую роль в изучении юным Венедиктом китайского и японского языков. Его дебюты в художественном освоении Китая и Японии начались с лирических «зарисовок с натуры», вернее - по памяти. Юношей, в пору пребывания в Петербурге, он пишет стихотворения «Песенцы» (1915) [30, с. 5], «На Амурском заливе» (19 февраля 1916) [30, с. 6] и «В курильне» (4 февраля 1916) [30, с. 8].
Свое лирическое высказывание, передающее картину мира китайца, в которой доминируют покой и созерцание, Март создает либо в форме трехстиший, либо пятистиший, написанных белым, сплошь инверсированным, стихом. В этом явственно чувствуется гумилевская традиция «восточной поэзии» [48] - Март отдает дань литературному опыту авторитетов («Китайские стихи» Н. Гумилева были написаны в июле 1914 г.). Но он и оригинален, - в первую очередь в том, что его лирический герой не просто эстетствует в петербургском кафе, а действительно плоть от плоти - носитель ментальности дальневосточного фронтира [15, 16], сам переживший описываемые ситуации:
«Юлит» веслом китаец желтолицый.
Легко скользит широкая шаланда
По тихой глади синих вод залива...
[33, «На Амурском заливе», с. 7]
Примечательно, что свои рукописные сборники Март постоянно «топонимизирует» именно китайским названием Владивостока: «Хай-шин-вей» (с указанием года написания и улицы)76. Создается впечатление, что поэт -сам немного китаец, ведь именно его глазами он наблюдает за скрытым в тумане Хай-шин-веем:
Как всплески под кормою, монотонно
Поет тягуче за веслом китаец
Про Хай-шин-вей - «трепангов град великий».
Над ним в далях небес светло-зеленых Полоски алые в томленьи тают, И звезды робко открывают лики.
[33, «На Амурском заливе», с. 7]
Уже в ранних «китайских» стихах Март полностью «вживается» в создаваемые им образы.
Так, в стихотворениях, позднее вошедших в сборник «Песенцы», лирический субъект лирики Марта - сам участник сеанса опиекурения:
Зорко и пристально взглядом стеклянным Смотрит курильщик на шкуру тигрицы -Некогда хищного зверя Амура.
Чтобы отдаться объятиям пьяным, Женщина с юношей ею прикрылись.
Смотрит курильщик, как движется шкура...
Мак, точно маг-чаротворец багровый,
Явь затемняет обманом дурмана, Чадные грезы тревожит и будит.
[33, «В курильне», с. 6; 23]
Для натуралистичного воссоздания атмосферы курильни и ощущений опиумного дурмана поэту не нужно было предаваться полету фантазии - известно, что этому пагубному пристрастию был подвержен он сам, а его брат (Гавриил) [10] даже получил второе имя - Фаин [38] (от китайского «фаин», обозначающего дозу опиума и одновременно состояние после ее употребления) [54]. Эти «фаины» Гавриила и сгубили, а вот Март сумел выкарабкаться и избавиться от пагубной страсти.
Художественные опыты Марта начала 1920-х гг. соединяли в себе тягу к эксперименту (в визуализации поэзии, в ритмике и образности) и живой интерес к культурной традиции Востока. Он проявляет себя как поэт и прозаик, беллетрист и очеркист, модернист и реалист, символист и футурист. И на этом фоне балансирует между любовью к великим культурам Китая и Японии.
В 1917 г. появляется сборник В. Марта «Песенцы» [30, 33]. В своей первой редакции текст сборника синтезировал произведения китайской и японской ориентации: собственно «Песенцы» (пиджинизированное название жанра песни одним знакомым китайцем Марта) и «Бисер» (танка и хокку Марта и переводы императора Микадо Мацухито). «Китайская часть» в этом сборнике изначально продемонстрировала интерес автора к разным сторонам культурной традиции Китая, базовым установкам национальной культуры, растворившимся в обыденной жизни китайцев. Объектом его лирических зарисовок становятся их религиозные представления о посмертном существовании («У Фудзядяня»), пристрастие к опиокурению («В курильне»). Но стихотворения обращены и к повседневной жизни китайцев, их ментальности («На Амурском заливе», «В чайном домике»),
В 1918 г. Март путешествует по Японии, посылая путевые заметки в дальневосточные журналы [24, с. 125]. Так, например, о своем визите в Страну Восходящего Солнца и о встрече со знаменитой четой японских поэтов Ёсано Хироси и Акико он рассказал в краткой статье «Современные японские поэты» для журнала «Природа и люди Дальнего Востока» [40]. Здесь же в качестве приложения он поместил собственные стихи и переводы танка супругов Ёсано, которые явили собой «настоящий пример поэтического переосмысления инокультурного опыта» [43, с. 86]. Одновременно Март обратился к переводам поэзии Китая и Японии [27, Танка «Из 1осано Акико», с. 7]. Он пробует себя и в жанре японских хокку и танка [27], и в переводах выдающихся китайских поэтов Ван Вэя и Ли Бо.
После поездки в Японию Март пишет странный - полумистический, полуэтнографиче-ский - рассказ «Каппа» (Март В. Каппа // ХКМ. Ф. 10. On. 1. Д. 1225. Л. 31-33). Каппа - персонаж японского бестиария, разновидность водяных [19, 44], до сих пор не потерявший свое значение в народной культуре и массовом сознании японцев. Путешествующий по Японии автобиографический рассказчик, поселившийся в районе Тигровых ворот Токио (постоянное место, указываемое Мартом в его «японских» стихах), погружается в мир старинных японских лубков. Его привлекает один из них, сделанный с работ «бессмертного Хокусая» [5], изображающий «странного душелюбца чудовищного Каппу». Повествование строится весьма изощренно: первоначально мы попадаем в атмосферу японской столицы, затем окунаемся в мир древнего искусства и, наконец, углубляемся в тайны этнической мифологии. Сопряжение импрессионистических впечатлений от рассматривания лубка с Каппой «чужестранным пришельцем» и подробностей, раскрывающих «вымыслы желтоликих мудрецов», переданных японским гидом рассказчика, г-ном Канадой, придают событию рассказывания дилогиче-ский ракурс. Так, чужестранец-рассказчик рассматривает лубок и выстраивает свой сюжет о Каппе: «Корявый, треннажисто-бородавчатый, слизистый, отвратительный Каппа уродливый и гадней всех гадов, кошмарней самой отвислой гнилостной фантазии безумца». А затем следует «информация» о Каппе из уст самого японца, для которого Каппа - не «кошмарная чудь», а реальный обитатель водоемов, которого надо опасаться (действительно, о поимке Каппы на пляже города Мито, префектура Тиба, сообщалось в 1801 г.; в 1836 г. писали о нападении Каппы на ребенка в реке Сингай) [55].
Март - интуитивно - использует то, что в современной этнографии называется «методом включенного наблюдения» и методом интервью: вначале исследует рисунок сам, затем внимательно и дотошно расспрашивает своего собеседника: «Какого приблизительно размера Каппа?», узнает у него о сроках жизни Каппы (он бессмертен), местах обитания («живет он одиночкой в окава - больших реках на берегах, в затонах. Любит ютиться под ивами, в тенях и тишине»), гастрономических предпочтениях (наряду с человеческими душами Каппа обожает... огурцы). И затем автор на полном се-рьезе сообщает, как можно уберечь душу при встрече с Каппой: «Надо взять огурец и тушью четко написать на нем свое имя, и бросить огурец с начертанием именным в воду для Каппы. И смело после этого можно броситься в воду, выкупаться возле самого Каппы - чудовище, отвлеченное огурцом, даже и не прикоснется купальщика».
Создается впечатление, будто сталкиваются две точки зрения на это существо: вымысел чужестранца-писателя и факты о жизни Каппы японца. На самом деле все наоборот: рассказчик лишь описывает лубок (это и есть фактический материал), а Канада с уверенностью носителя мифологического сознания передает бытующие в народе мифологические представления об этом демоне.
Переплетение в единое целое самых разных жанров (путевой очерк, рассказ в рассказе, интервью, былички и бывальщины) завершается утопленными в прозе танка: «Говорливый ветерок набежал на сакуру и небрежно обронил несколько лепестков на циновку. Один лепесток упал на лубок, шаловливо прикрыл собой уродливый лик чудовища Каппы». Так Март одновременно проявляет себя и как скрупулезный очеркист-этнограф, и как захватывающий беллетрист, и как мастер орнаментальной прозы -продолжатель Ремизова и Белого, и как талантливый стилизатор японской литературы.
Чуть позднее появятся его «Распечатанные тайны» (1920) - странный сплав модернистского эротизма и стилизации под японскую средневековую литературу [31]. «Миниатюры» были опубликованы в литературно-художественном ежемесячнике «Окно», издание которого имело своей целью установление связи между Харбином и Советской Россией (вышло, правда, всего два номера77). Первый журнал с автографом на обложке был даже специально отправлен из Харбина в Москву М. Горькому, но ответа дальневосточные поэты не дождались. Журнал просуществовал недолго, однако дал возможность опубликоваться многим авторам: С. Алымову, Ф. Камышнюку, С. Третьякову, А. Несмелову, М. Щербакову, в т.ч. и В. Марту [8, с. 428-429].
Жанр миниатюры, определенный автором уже в подзаголовке, вполне соответствовал и самой малой форме произведений, и их содержательной наполненности. Генетически миниатюра (жанр живописи) - это картинка, заставка, иллюстрация старинных рукописей [9]. Известно, что искусство Древнего Китая и Японии являет роскошные образцы миниатюр, выполненных на предметах утвари (сосудах, веерах), дощечках-раскладушках, лубках и т.д. Особый пласт составляют китайские и японские миниатюры эротического содержания. Март был знаком с такого рода искусством: в очерке «Каппа» он напишет о «старинных лубках, собранных у антикваров на Гинзе и в случайных предместных лавчонках» (Март В. Каппа // ХКМ. Ф. 10. On. 1. Д. 1225. Л. 31-33), в цикле «Желтые рабыни» расскажет о китайских миниатюрах непристойного содержания, создаваемых подневольными художницами [28]. Но он обращается к словесному жанру миниатюры в прозе, которую часто называют «картинкой», «сценкой» и т.п. (А. Квятковский) [18]. Русская литература начала XX в. была ориентирована на подобного рода эксперименты, которые, с учетом их синтаксической ритмизованности, можно определить так: «либо проза, либо стих» [6, с. 15-16]. По форме миниатюры соответствуют известному в отечественной литературе жанру - «стихотворению в прозе» (вспомним хотя бы И.С. Тургенева). Но содержательно они весьма экзотичны для русского литературного сознания. «Распечатанные тайны» Марта - зарисовки (напоминающие дневниковые записи) из его мужского опыта постижения женщины. Всего их пять: «Женщина», «Старая дева», «Камень безымянный», «Уют», «За окном». На первый взгляд, они никак между собой не связаны, но при прочтении перед читателем возникает образ мужчины, «распечатывающего» «тайны» своей и женской сексуальности.
Символическое название, эротическое содержание, особая форма произведений обнаруживают переклички с восточной традицией литературы, а именно с японской средневековой поэзией и прозой, генетически связанными между собой [25, 37, 52]. Для представителя клана Матвеевых это было не удивительно. Как и его брат Фаин, Венедикт любил, чтил и переводил Басё. Увлекался он, как мы видим, и японской прозой. Японская литература знает жанр «тайбун» - сжатый маленький прозаический отрывок, исполненный своеобразных намеков [25, с. 42], или прозу в стиле хайкай [21, с. 178].
Будучи увлеченным японской литературой, Март не мог не знать мастера в этом направлении прозы - Ихара Сайкаку [21, с. 166-170]. Сайкаку сочинял хокку на популярные любовные сюжеты, которые были интересны японским поэтам еще с древности. В отличие от своих прославившихся предшественников (Ман-ёсю, Мурасаки Сикибу), взор Сайкаку был обращен не к придворной среде, а к жизни простолюдинов. Новые темы, к которым обратился поэт в хайкай, легли в основу его любовных и бытовых новелл (хёбанки). Многие из них носили явно непристойный характер, но тем и были интересны публике: описание жизни публичных домов Киото, Осаки и других городов увлекало читателей больше, чем отражение строгих нравов представителей высших классов. Сайкаку воспевал любовь в ее физиологической форме, любовь «веселых кварталов» феодальной Японии, случавшуюся между женщиной и мужчиной, которым по общественным законам нельзя было быть вместе. Именно такие истории о несчастной любви находили отклик у читателей, запоминались и пересказывались. В его произведениях особое развитие получил женский характер: его героини хотя и легкомысленны, но сильны и полны достоинства («История любовных похождений одинокой женщины», «Пять женщин, предавшихся любви»), Сайкаку прославился, создав литературу о современной ему жизни и нравах, подобной которой до него еще не было [21, с. 160-182].
Венедикт Март, как видно, в своих миниатюрах соединил особенности каждого из перечисленных жанров. Подобно творцу танка, автор метафоризирует язык своих произведений (например, «Камень безымянный» - метафора скоротечной, но полной страсти жизни). Его «тай ны» - это и вариация на тему средневекового эротического романа. Эротические мотивы мы видим уже в первой миниатюре Марта «Женщина»: «Я много ласкал их - и всегда они были непонятны мне» [31, с. 8]. Или в «Старой деве»: «Синие глаза в темных рамках век горели желанием. На щеках ярко рдели лепестки румянца. Губы пылали» [31, с. 9].
В начале 1920-х гг. Март примкнул к футуристам, сам таковым не являясь: слишком увлекательно протекала жизнь в их окружении, давая новые стимулы и художественные импульсы. Из Владивостока Д. Бурлюк посылал в Москву свои знаменитые программные статьи. Владивостокский шутник на «футуристическом жаргоне» фиксировал творческие штудии «Балаганчика»: «Кто-то где-то уж бурлючил, кто-то что-то футурил», Третьяков, разумеется, «тре-тьяковил», Асеев - «асеил», а Март реализовывался, «стихи венедиктиня...» [7]. Марту за теоретическим опытом и поэтическим вдохновением и ходить далеко не было нужды - некоторое время Давид Бурлюк проживал у них дома [2]. Но Марта в футуризме привлекали не просто эксперименты, богемная среда. Его владивостокский футуризм был неотделим от соприродного ему увлечения Востоком. У некоторых ревнителей «теоретически чистого», урбанистического футуризма возникнет закономерный вопрос: каким образом связать это с футуризмом, если Восток - заповедная епархия модернизма, а футуризм - это стеклобетонный, «жестяный» урбанизм и т.д.? Надо учитывать, что владивостокские футуристы созданы из «особого теста»: они были всецело ориентированы на Восток и его эстетику (С. Третьяков, С. Алымов, Д. Бурлюк). Помимо сердечного влечения, очевидно, это были продолжатели хлебниковского порыва сказать свое ««я» Азии» [51, с. 603]. Потому так настойчиво устремился в Китай чуть позже С. Третьяков, а Д. Бурлюк стал еще и «отцом японского футуризма» [26].
Март был и продолжателем народно-демократического начала в литературе. Его с юных лет привлекает образ простого человека, и наиболее интересен ему представитель инокульту-ры - китаец, японец, позднее - нанаец. Наряду с претенциозным эротизмом и эстетизмом «Распечатанных тайн», в которых восточная подоплека была видна только «посвященному оку», а на поверхности был интерес к вопросам пола в духе Ф. Ницше, О. Вейнингера и 3. Фрейда вместе взятых, Март-прозаик явно тяготеет и к линейному повествованию в духе древних китайских новелл. Этот тип прозаического текста, отражающий национальную картину мира китайцев, был и адекватен запросам русской беллетристики той поры в целом [И], и соответствовал тем опытам в художественной этнографии, что были предприняты уже Н.А. Байковым, П.В. Шкуркиным, М.В. Щербаковым [13].
Все в том же 1920 г. Март публикует сборник «Тигровьи чары». В него вошли два рассказа и стихотворение («Гадальщик»), Заметим - название сборника словообразовательной моделью перекликается с названием романа Ф. Сологуба «Навьи чары» [42], чего многие не замечают и используют, неверное, с точки зрения русского языка более понятное написание: «Тигровые чары». На наш взгляд, переклички с Сологубом вызваны не просто более предпочтительной мелодикой словосочетания (хотя и в этом есть смысл с учетом мартовского увлечения футуризмом), а именно религиозными коннотациями. Март словно перекликается с Сологубом - тот изобретает, «творит» легенду о России и русской жизни, а Март погружается в мир живых и действенных преданий, определяющих быт китайского народа [22, с. 227]. Это определено самим названием сборника. В мифопоэтических представлениях китайцев тигр - царь зверей и владыка леса и гор. Он является одним из четырех священных животных и ассоциируется с землей [47, с. 511]. «Ван» и «Дэ» («Царь» и «Великий») - многосмысленные иероглифы, природой выведенные на лбу дальневосточного хищника. «Великий Ван», «Хозяин тайги», «Повелитель тайги», «Акбар», «Семь полосок на спине», «Амба» и прочие иносказательные именования этого животного используются у разных народов вместо прямого его имени [17, с. 155]. Отсюда представления об огромной животворящей силе тигра: китайцы верили и верят, что это животное защищает от демонов, приносящих болезни, исцеляет человека. В китайской мифологии маги, выступающие как устрашители демонических существ, обычно изображаются восседающими на тигре [47]. Именно с тигром - Духом Леса - и сопровождающими его мифологическими образами, в которые он способен воплощаться (женьшень, горные хребты, священные места), - связаны произведения Н. Байкова, П. Шкуркина, М. Щебакова, написанные ранее, одновременно с Мартом либо позднее, и посвященные мифологии дальневосточного фронтира [17]. Таким образом, писатель самим названием настраи вает читателя на то, что в его книге речь пойдет о мифологических представлениях жителей Дальнего Востока. В книгу вошли произведения, семантически связанные: два рассказа -«Лапа Мин-Дзы», «Долг покойного» - и стихотворение «Гадальщик». Их всех объединяют традиционные верования китайцев в судьбу, переселение душ и посмертное существование.
Графический и синтаксический рисунок текста обращает читательское сознание к ритмизованной прозе символистов:
«Так и состарилась на чужбине Мин-Дзы. Лет тридцать назад - еще бойкой, расторопной - выбралась она случаем из родной деревушки. Зазвал ее на чужбину заезжий проходимец Ван-со-хин, бывалый делец, не однажды посетивший и таежный Амур, и тихие берега спокойной Кореи, и дальний приют белого дьявола Хай-шин-вей.
Ван-со-хин развозил по китайским незатейливым селеньям побережья, ближайшего в Чифу, всякую ходкую всячину: и спрессованную морскую капусту, и лакомые трепанги, и чечунчу прочную, и напраздничные раскрашенные картины театрального действа с изображениями длиннобрадых старческих ликов богов, и наряды готовые, и безделушки любимые, и всякую неожиданную чужестранную невидаль» [32, с.З].
Но, как видно уже из первых абзацев, повествование Марта далеко от сверхсмысловой на-груженности символистского текста. Писатель обращается к религиозным верованиям китайцев сквозь призму их повседневной жизни, и самое главное - с точки зрения самих китайцев. Потому перед нами уже не опоэтизированный одурманенный Хай-шин-вей (Владивосток, куда из Чифу попадает Мин-Дзы), а шокирующий своей реальностью приют торговцев, насильников и убийц:
«Запекшиеся в комьях почерневшей крови, отрубленные головы уличных опийщиков все чаще свешивались на придорожных столбах в назидание еще не уличенным опийщикам» [32, с. 4]. Судьба Мин-Дзы в этом городе - «приюте белого дьявола» - отличается от судеб многих таких же бедолаг тем, что ей сопутствует удача, приносимая таинственной тигровой лапой, - «наследной» лапой-амулетом. «С необычайным вниманием и осторожностью, пуще всего берегла Мин-Дзы эту вещь. Еще дед завещал отцу, а отец ей передал тигровую лапу» [32, с. 4]. Вскоре жестокая участь обитательницы притона сменилась на тепло и уют: девуш- ка подружилась с богатой китаянкой Кун-ны и до старости прожила у этой доброй и ласковой женщины. После смерти своей покровительницы Мин-Дзы пришлось вернуться в грязь и нищету. Вот тут и пригодилась тигровая лапа.
На старости лет Мин-Дзы стала пользоваться уважением и почетом. Она прославилась тем, что избавляла человека от застрявшей в горле рыбной кости при помощи лапы. Так и закончила свой век «в черных, сумрачных провалах среди бесконечных грязных пристроек, надстроек и построек одного из затхлых, потускневших домов китайского Владивостока... слепнущая, еле движущаяся крохотная старушонка Мин-Дзы - «знаменитая и единственная специалистка по вытаскиванию рыбных костей из горл» [32, с. 10].
Мин-Дзы пользуется древней магической практикой, непременным атрибутом которой является таинственная тигровая лапа, дарующая жизнь: «Цап-царап, цап-цапыньки - сверху вниз, и еще, и опять, и потом... водит, проводит старушонка без толку кропотливой ручонкой... минута, другая - глянь! - кость-то и выскочила из места насиженного...» [32, с. 10]. Не случайно лапа тигра словно срастается со старушкой -это вполне соответствует мифологической логике подвижности пребывания сферы божества. Потому и рассказ назван не «Тигровая лапа», а «Лапа Мин-Дзы»; в названии процесс мифологической аппелятивизации зафиксирован как нельзя более убедительно [46].
Взгляд на жизнь китайцев сквозь призму их повседневной религиозности становится основой сюжета другого рассказа сборника -«Долг покойного» [32, с. 11-18]. Начинается рассказ с небольшой экспозиции - китайского поверья:
«Три души у человека. После смерти расходятся они.
Одна душа уходит в иной, загробный, мир и повторяет земную жизнь усопшего.
Душа другая остается в могиле с мертвецом.
А третья душа покидает прах, вселяется в родную фанзу, ютится в дощечке родовой с начертанным именем покойного.
Как будто бы и умер человек - ан, нет! Жива его душа и бродит в мире...» [32, с. 11-12].
Сюжетная ситуация рассказа - мифема о том, что нет успокоения душе того, кто взял в долг.
Согласно древнему представлению китайцев, у человека несколько душ, например, души хунь и по, одна из которых улетает после смерти, а другая остается с умершим до полного разложения тела. Кроме того, есть душа лин, которая находит жизнь во всех вещах и существах [45]. По-видимому, о душе лин и повествует Март.
Душа Ку-юн-суна после смерти переселилась в жеребенка, чтобы конем отработать долг, взятый при жизни. Пример подобной реинкарнации мы можем встретить в уже упомянутом рассказе «Лапа Мин-Дзы».
Настоящим сокровищем становится стройный красавец-жеребец для Син-дзы. Однажды юноша решил взять коня на ярмарку, где он впервые расстроил хозяина - учинил разгром в горшечной лавке. Впоследствии оказалось, что хозяин лавки был должен дяде Син-дзы. Таким образом, душа Ку-юн-суна вернула долг. Миф, сказка и реальность переплетены в рассказе, как и в традиционной китайской прозе. Март сотворяет свою легенду о жизни и верованиях китайского народа.
Бытописание у Марта сочетается с особой словесной вязью - стиль рассказов сборника сближается с орнаментальной прозой. И здесь его ближайшими предшественниками выступают, очевидно, все тот же Ф. Сологуб и А. Ремизов. Разговорная лексика, просторечия, которыми он мыслит воссоздать речь простых китайцев («шевели мозгой», «пень расторопный»), перемежаются тавтологическими повторами, инверсиями («с детства далечайшего», «родовых россказней» и др.), помещается в особую графическую систему абзацев-предложений. Автор не старается выглядеть отстраненным - повествование изобилует эмоционально-экспрессивной лексикой: «дядюшка», «старушка», «соседушка», «мелюзга» и др., выражающими авторское отношение к объекту изображения. Образ «седого, горбатого» старика Ку-юн-суна становится сквозным персонажем «китайского» текста В. Марта - позднее он появится и в лирике, и в прозе.
Дальневосточное творчество Марта - начальный этап становления художественной этнографии. Являясь непосредственным наблюдателем жизни представителей дальневосточных этносов, обладая книжными знаниями об этом, Март привносит в свое творчество личный опыт взаимодействия с другой культурой. Первый рассказ сборника «Тигровьи чары» предваряет посвящение: «Посвящаю китайскому поэту Сыкун-Ту, автору бессмертных стансов «Поэма о поэте». Автор». Очевидно, с поэзией этого классика тайской эпохи Март мог познакомиться в издании Алексеева [1]. Обращение к творчеству поэта-критика, по всей видимости, было не случайным для Марта. Сборник «Тигровьи чары» стал этапом окончательной китайской ориентации Марта.
Пребывание в многонациональном Харбине (1920-1923) лишь усилило направленность писательского сознания на этнографизм. Во-первых, в Харбине Март переиздает свои «Песенцы», дав иное название - «Хай-шин-вей: Песенцы: Китайские этюды: Стихи» - и обновив содержание. Из владивостокского в харбинский сборник перекочевали почти все стихотворения: «Песенцы», «В курильне», «У Фудзядяна», «На Амурском заливе», «Мой гипсовый череп». Исключение составило лишь стихотворение «В чайном домике» (оно посвящено японцам). Новыми для второго сборника стали «Три души», «У моря», «Гадальщик» (которое уже встречалось в сб. «Тигровьи чары») и «Ду-Хэ (одинокий журавль-аист)».
Весьма характерно, что новую редакцию «Песенцов» (которую по праву можно считать новым сборником) пронизывает просветительский посыл Марта: он сопровождает стихотворения комментариями, поясняющими читателю ту или иную сторону жизни китайцев, их художественную традицию. В стихотворении «Три души» два комментария, касающиеся мифологии посмертного существования и определяющие сюжет лирической зарисовки.
Китайская легенда о переселении душ теперь дается в поэтическом переложении. В стихотворении «Три души» она воссоздается при помощи причудливого сочетания лирического «повествования» и акцентного стиха с прихотливой аграмматической рифмовкой:
...Три души его покорно Разбрелись. Дороги Их решили боги:
Брак трех душ его расторгнуть.
Страж душа одна осталась С мертвецом в могиле... С новой ясной силой В теле бренном засияла.
Отошла душа другая, Труп покинув в гробе, -В мир иной загробный, Жизнь земную повторяя.
Третья - в фанзу возвратилась.
И дощечка в доме -
Память о покойном -
Третью душу приютила [33, с. 9-10].
Такой стих, по замечанию М.Л. Гаспарова, почти не употребителен [6, с. 154-155], что приводит к определенной прозаизации художественного текста [6, с. 18]. И если бы текст не был заведомо графически разбит Мартом на четверостишия, он действительно мог бы читаться как ритмизованная проза78. В результате же графической сегментации создается особый ритмический рисунок, имитирующий китайскую поэзию, - для знатоков. А для «профанов» эта лирика несет на себе печать версификационного эксперимента.
А. Киржниц писал (о Марте вкупе с Камыш-нюком), что «в гнилой и засасывающей обстановке Харбина их творчество получило специфический уклон, и они сами так погрязли в харбинском болоте, что вряд ли им уже удастся выбраться из него» [20]. Справедливости ради скажем: кроме «Распечатанных тайн» и «Песенцов» Мартом были изданы в Харбине сборники «Луна. Стихи» (1922), «На перекрестках смерти. Украденная смерть» (1922) и несколько стихотворений, напечатанных в газетах и журналах [23, с. 87-88].
А что касается харбинского болота, - действительно, писатель оказался в Харбине в те годы, когда не просто литературной среды -культурной жизни дальневосточного зарубежья как таковой еще не сложилось. Потому немудрено, что в Харбине Март (по владивостокской привычке) вел беспутный образ жизни: «что у него было - пропивалось, прокуривалось и расходовалось на <зачркн.>, в ущерб семье» (Архив Н.П. Матвеева-Бодрого // ХКМ. Ф. 10. On. 1. Д. 723). Но гривуазные похождения Марта оказались чреваты для писателя и открытиями - в художественной этнографии. По крайней мере об этом можно судить по циклу очерков «Желтые рабыни» [28] - в них Март проявился и как этнограф, и как очеркист, и как про- заик. Как ученый-этнограф, Март предпринимает настоящее путешествие в естественную среду Только среда эта не выходит за пределы Харбина, а располагается в специфическом его районе - Фудзядяне, месте притонов и других злачных мест. Цикл открывает просветительски заряженное предуведомление автора:
«Европейцы - жители Полосы Отчуждения -китайской территории - буквально отчуждены, вовсе изолированы от территории китайского повседневия.
Смешавшись вплотную, перепутав свои насущнейшие интересы и потребности с местными желтолицыми аборигенами, мы все же допущены, проникли к ним лишь в сфере уличной поверхности...
Наше знакомство, по преимуществу, шапочно через прилавок, по мере необходимости.
Мы за китайской стеной быта.
Поэтому вряд ли не представит интерес наш очерк, приоткрывающий несколько двери в интимнейший мир туземного Харбина и к его детищу - Фудзядяну!..» [28. № 124].
В цикле «Желтые рабыни» под специфическим углом зрения Март исследует рынок любви в Китае, успевая при этом рассказать и о традиционной китайской семье, и об устройстве ее в отдельных районах, и о нравах простолюдинов. Несмотря на сомнительную, с точки зрения обывательской морали, тему, он проводит настоящее научное исследование, вновь обращаясь к интервью, используя методы, которые сегодня активно применяют социологи и антропологи: соцопрос, контент-анализ.
И при этом Март остается истинным художником, сохраняя интригу в повествовании, душевно проникаясь своими героями. По ходу путешествия (которое он предпринимает с китайским проводником) Март успевает поведать поэтическую быль о губительной любви бедного юноши к проститутке и историю о куртизанке Куа-хуа - поклоннице театра и других видов искусств. Этот цикл, без сомнения, представляет собой ценный, с точки зрения этнографии и художественной этнографии, материал, ждущий детального исследования.
В 1923 г. Март уехал с семьей в Москву. Киржниц писал, что его «спас <...> отъезд в Совроссию» [20]. Соотнеся эти слова с датой смерти писателя, осознаешь горькую иронию судьбы. Конечно, советский критик в середине 20-х гг. не мог и предположить, сколь коротка окажется жизнь писателя в Советской республике.
Но Киржниц писал о другом: о творческом спасении. Вот с чем можно поспорить. Дальневосточный период творчества В. Марта, вместивший 27 лет его жизни, стал не только временем становления истинно дальневосточного художника слова - с особым типом ментальности, культурной ориентации, своеобразными темами и сюжетами. Это был важнейший период формирования его художественной этнографии. Это был плодотворнейший этап его творческой жизни. Именно в эту пору Март написал свои лучшие произведения как писатель-виртуоз, вместивший в себя и Японию, и Китай, и русский Дальний Восток, и европейскую часть литературной России.
Список литературы Художественная этнография Венедикта Марта: дальневосточный период
- Алексеев В.М. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкунь Ту (837-908): пер. и исслед. -Пг.: Тип. А.Ф. Дресслера, 1916
- Афанасьева Л. Владивосток, Бурлюк, «Балаганчик». Мемуары//Рубеж. 2012. № 12 (874). С.220-224.
- Вагинов К. Козлиная песнь. М.: Художественная литература, 1991
- Витковский Е. Состоявшийся эмигрант//И. Елагин. Собр. соч.: в 2 т. Т. 1. Стихотворения. М.: Согласие, 1998. С. 5-40.
- Воронова Б.Е. Искусство суримоно Кацусика Хокусая//Сообщения Музея изобразительных искусств им. Пушкина. 1966. Вып. 3. С. 66-73; Трафика. М.: Искусство, 1975.
- Еаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях. М.: «Фортуна Лимитед», 2001.
- Голос Родины. 1920. 2 марта.
- Диао Шаохуа. Краткий обзор истории русской печати в Харбине//Литература русского зарубежья в Китае (в г. Харбине и Шанхае): Библиография (список книг и публикаций в периодических изданиях)/сост. Диао Шаохуа. Харбин: Изд-во Бейфан Вен-и, 2001. С. 403-445.
- Дынник В. Миниатюра//Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: в 2-х т./под ред. Н. Бродского и др. М.; Л., 1925. Т. 1. А-П. С. 443.
- Дьяченко Б. Клан Матвеевых//Рубеж. Тихоокеанский альманах. 2003. № 4. С. 265-272.
- Забияко А.А. На проселочных дорогах русской литературы: казус харбинской беллетристики//Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: хрестоматия: в 4-х томах. Т. 1. Проза: в 3-х частях. Ч. 1 (А-К)/сост., общ. ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой. Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2013. С. 3-36.
- Забияко А.А. Религиозные традиции амурских эвенков в художественной этнографии Гр. А. Федосеева//Религиоведение. 2012. № 1. С. 164-175.
- Забияко А.А. Текстологические тропы дальневосточной этнографии (проблема аутентичности текстов писателей 20-40 гг.)//Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 5. Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2012. С. 84-102.
- Забияко А.А. Художественная этнография Дальнего Востока: советский и эмигрантский текст//Традиционная культура Востока Азии. Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. С.270-290.
- Забияко А.П. Порубежье//Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Русские и китайцы: региональные проблемы этнокультурного взаимодействия: сб. материалов между нар. науч.-практ. конф./под ред. А.П. Забияко. Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2010. Вып. 9. С. 5-10.
- Забияко А.П. Русские в условиях дальневосточного фронтира: этнический опыт XVII -начала XX вв.//Русские и китайцы: этномиграционные процессы на Дальнем Востоке/А.П. Забияко, Р.А. Кобызов, Л.А. Пократова/под ред. А.П. Забияко. Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. С. 9-35.
- Забияко А.А. Мифология дальневосточного фронтира в сознании писателей-эмигрантов//Религиоведение. 2011. № 2. С. 154-170.
- Квятковский А.П. Миниатюра//Поэтический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966. С. 160.
- Кёгоку Н., Тада К. Иллюстрированная энциклопедия демонов. Токио: Кокусёкан Кокай, 2000.
- Киржниц А. У порога Китая. М.: Красная новь, 1924.
- Кирквуд К.П. Ренессанс в Японии. Культурный обзор семнадцатого столетия. М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1988.
- Левченко А.А., Забияко А.А. Художественная этнография В. Марта: образы китайцев в прозе 1920-х гг.//Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Этнокультурные процессы в политическом контексте: сб. материалов между нар. науч.-практ. конф./под ред. А.П. Забияко, А.А. Забияко. Благовещенск: Изд-во Амур, гос. ун-та, 2013. С. 219-236.
- Литература русского зарубежья в Китае (в г. Харбине и Шанхае): Библиография (список книг и публикаций в периодических изданиях)/сост. Диао Шаохуа. Харбин: Изд-во Бейфан Вен-и, 2001. С. 87-88.
- Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: хрестоматия: в 4-х томах. Т. 1. Проза: в 3-х ч. Ч. 2 (Л-П)/сост., общ. ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой. Благовещенск: Изд-во Изд-во Амур. гос. ун-та, 2013.
- Логинов В. Хайкай//Луч Азии. 1940. № 65. С. 42-44 (Русский Харбин, запечатленный в слове. К 70-летию профессора О.И. Федотова: сб. науч. работ/под ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой. Благовещенск, 2010. Вып. 4. С. 235-240).
- Марков В. Русский след в Японии (Давид Бурлюк -отец японского футуризма)//Рубеж. 2010. № 10 (872). С. 261-279/
- Март В., Безе. Лепестки Сакуры. Владивосток: Свободная Россия, 1919.
- Март В. Желтые рабыни//Копейка. 1923. № 123-126, 159.
- Март В. Мартелии. Владивосток: Кн-во Хай-Шин-Вей, 1918.
- Март В. Песенцы. Владивосток: Тип. Н.П. Матвеева, 1917.
- Март В. Распечатанные тайны. Миниатюры//Окно. 1920. № 2. С. 8-10.
- Март В. Тигровьи чары. Владивосток: Типография «Эхо», 1920.
- Март В. Хай-шин-вей: Песенцы: Китайские этюды: Стихи/предисл. С. Гусева-Оренбургского. 2-е изд. Харбин: Камень, 1922.
- Март В. Черный дом. Черный хрусталь. Владивосток: Кн-во Хай-Шин-Вей, 1918.
- Марш К. Знакомство с российским «Диким Востоком» (Нэшнл Джиогрэфик, декабрь 1920 г. Т. 38, № 6)/пер. с англ. М. Немцова//Рубеж. 2011. № 11 (873). С. 230-235.
- Марьин В. Порывы. Владивосток: Тип. Н.П. Матвеева, 1914.
- Миямори А. Хайкай древний и современный. Токио,1932.
- Несмелов А. О себе и о Владивостоке//Собр. соч.: в 2-х т. Т. 2. Рассказы и повести. Мемуары/А. Несмелов. Владивосток: Рубеж, 2006. С. 642-660.
- Пальчевский Н.А. В общее собрание ОПАК.//Рубеж. 2003. №4. С. 309-337.
- Природа и люди Дальнего Востока. 1918. №2.
- Савада К. Н.П. Матвеев в харбинском журнале «Рубеж»//Матвеев Н.П. «Ваш японский корреспондент..». Рубеж. 2011. № 11 (873). С. 375-391.
- Сологуб Ф. Капли крови («Навьи чары» -первая часть трилогии «Творимая легенда»). М.: Центурион, 1906.
- Сулейменова А. Япония глазами поэтов-иммигрантов -от увлечения японской сказкой к глубокому анализу//Сб. статей № 2 по результатам конференции «На периферии и на чужбине -сравнительное исследование маргиналий русской культуры»/отв. ред. Цунэко Мо-тидзуки. Саппоро, 2011. С. 76-93.
- Тада К. Обитатели потустороннего мира. Токио: Синкигэнся, 1990. Т. 4.
- Токарев С.А. Душа//Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. Т. 1/под ред. С.А. Токарева. М.: «Советская Энциклопедия», 1987. С. 414.
- Топоров В.Н. Очир//Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 271.
- Топоров В.Н. Тигр//Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. 2/под ред. С.А. Токарева. М.: «Советская Энциклопедия», 1988. С. 511-512.
- Федотов О.И. «Китайские стихи» Николая Гумилева (версификационная поэтика цикла)//Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-т, 2002. Вып. 3. С. 494-501.
- Хисамутдинов А.А. Владивосток. Этюды к истории старого города. Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 1992.
- Хисамутдинов А.А. По странам рассеяния: монография: в 2 ч. Ч. 2. Русские в Японии, Америке и Австралии. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2000.
- Хлебников В. Письмо двум японцам//Творения/общ. ред. и вступ, ст. М.Я. Полякова; сосх, подгот. текста и коммент. В.П. Григорьева и А.Е. Парни-са. М.: Советский писатель, 1986. С. 603-605.
- Хьюз Г. Предисловие к «Трем поэтессам современной Японии». Брошюры Вашингтонского университета. 1927. № 9.
- Эхо. 1920. 25 января.
- Юльский Б. Возвращение г-жи Цай//Рубеж. 1937. № 28.
- Каппа. Мифологическая энциклопедия : http://myfhology.info/monsters2/kappa.html.