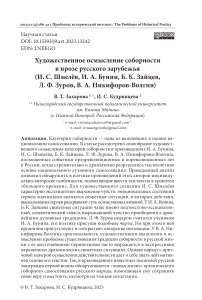Художественное осмысление соборности в прозе русского зарубежья (И. С. Шмелёв, И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, Л. Ф. Зуров, В. А. Никифоров-Волгин)
Автор: Захарова В.Т., Кудрявцева И.С.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Категория соборности - одна из важнейших в нашем национальном самосознании. В статье рассмотрено своеобразие художественного осмысления категории соборности в произведениях И. А. Бунина, И. С. Шмелёва, Б. К. Зайцева, Л. Ф. Зурова, В. А. Никифорова-Волгина, посвященных событиям предреволюционных и пореволюционных лет в России, когда стремительно и драматично разрушались тысячелетние основы национального духовного самосознания. Проведенный анализ позволил обнаружить в поэтике произведений этих авторов индивидуально-авторские особенности, позволяющие ввести эти тексты в хронотоп «большого времени». Для художественного сознания И. С. Шмелёва характерно эксплицитное выражение чувств, эмоциональных состояний героев; значимыми являются сюжетные ситуации, в которых действия, высказывания героев раскрывают суть осмысляемых явлений. У И. А. Бунина, Б. К. Зайцева сюжетные ситуации чаще имеют подтекстово-ассоциативный, символический смысл, выражающий чувство приобщения к древнейшим духовным традициям. Л. Ф. Зуров недаром считался учеником И. А. Бунина: его поэтике присущи подобные черты. Но при этом в ней органично присутствуют и «открытые» авторские интонации. У В. А. Никифорова-Волгина оригинальность художественного мышления в осмыслении проблемы существования традиции соборности в русской жизни с ее жесточайшими перипетиями часто выражается в экспрессивно окрашенных драматических сюжетных ситуациях. Однако наряду с притчевой манерой осмысления действительности дает о себе знать лейтмотивная основа его текстов. Так, в произведениях известных писателей русской эмиграции первой волны обнаруживается «живая жизнь» органического соборного самосознания русского народа, помогающая ему сохранить свою веру и выстоять, несмотря на тяжкие испытания.
Категория соборности, русское зарубежье, и. с. шмелёв, и. а. бунин, б. к. зайцев, л. ф. зуров, в. а. никифоров-волгин, поэтика, художественное сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/147242342
IDR: 147242342 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13242
Текст научной статьи Художественное осмысление соборности в прозе русского зарубежья (И. С. Шмелёв, И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, Л. Ф. Зуров, В. А. Никифоров-Волгин)
К атегория соборности — одна из важнейших в понимании нашего национального самосознания. Научное осмысление ее проявления в русской культуре было и остается важной методологической задачей. В известном труде И. А. Есаулова «Категория соборности в русской литературе» она впервые была исследована как « ведущая категория русского православного христианства» в ее многогранном отражении в истории отечественной словесности [Есаулов, 1995: 3]. В. Н. Захаров еще в конце 1990-х гг. назвал эту книгу «открытием», связанным главным образом с тем, что в ней дается « новое определение содержания русской литературы . <…> Соборность как категория не только выражает “глубинную суть православной религиозности”, но и государственный, социальный, этический и эстетический принцип древней и новой России. Она раскрывает органическое единство древней и новой русской литературы» [Захаров: 5–6].
Исследователи не обращались к специальному изучению своеобразия художественного осмысления категории соборности в произведениях известных писателей русского зарубежья
И. А. Бунина, И. С. Шмелёва, Л. Ф. Зурова, В. А. Никифорова-Волгина, посвященных событиям предреволюционных и пореволюционных лет в России, когда стремительно и драматично разрушались тысячелетние основы национального духовного самосознания.
Творчество И. С. Шмелёва — превосходный пример многогранного художественного осмысления категории соборности в произведениях разных лет. Особенно это касается автобиографической прозы писателя — повествований «Богомолье» (1931–1948) и «Лето Господне» (1933–1948). Шедевры шмелёв-ского наследия уже весьма многосторонне проанализированы в современном литературоведении. Здесь выделим менее исследованные произведения: неоконченный роман «Солдаты» (1925) и рассказ «Свет Разума» (1926). Проблема изучения неоконченного произведения всегда привлекала внимание исследователей: различные редакции известных произведений, публикации отрывков и собственно неоконченных текстов (об этом в литературоведении неоднократно шла речь, к примеру, в связи с творчеством А. С. Пушкина, А. Белого, М. А. Булгакова, А. А. Ахматовой и др.).
Роман «Солдаты» вызвал серьезную полемику в эмигрантской прессе, глубоко проанализированную А. Мартыновым, справедливо уверенным в том, что, «несмотря на свою незавершенность и некоторое стилистическое несовершенство, роман остается значительным этапом в творчестве Шмелёва» [Мартынов: 341]. Здесь выделим в нем лишь черты художественного проявления соборности как одной из ведущих национально-ментальных черт.
Ввиду незавершенности романа осмыслить возможно лишь относительно небольшую часть написанного. Отметим и год его создания — 1925-й. Это уже после огромного свода произведений дооктябрьской прозы, после «Солнца мертвых», но до «Богомолья», «Лета Господня», «Путей Небесных» и других известных эмигрантских сочинений. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что в романе «Солдаты» обнаруживаются любимые автором мотивы произведений прошлых лет и проецирование концепции будущих, еще не написанных творений. Разумеется, в последнем случае речь можно вести об интуитивно-прозреваемом, имплицитно выраженном смысле. Обращение к тексту романа не обманывает нас в таком предположении, хотя именно этот роман у Шмелёва отличается неведомой автору ранее высокой степенью открытого прямого выражения своих взглядов, чаще всего через образ капитана Бураева, положительного героя, в котором Шмелёв сконцентрировал многие прекрасные черты русского человека.
Действие романа разворачивается в предреволюционной России, преимущественно в провинции, где стоит полк главного героя романа — капитана Бураева. Этому образу автором уделено внимание более всего. Совершенно очевидно, как это заметила еще эмигрантская критика, «офицеры, главным представителем которых является капитан Бураев, были носителями военного и национального чувства с определенным и настоящим понятием о чести» [Кутырина: 5]. Полагаем, здесь очевидна типологическая схожесть героя романа «Солдаты» с образом Васи Коврова из романа «Няня из Москвы». Как точно было замечено С. В. Шешуновой, Вася Ковров, участник ледяного похода, становится в романе героем, олицетворяющим «мужское благородство» [Шешунова: 38].
Подобными лейтмотивами — настоящего понимания чести, глубокого национального чувства — роман генетически связан и с известным рассказом начала Первой мировой войны — «Лик скрытый». Заметно типологическое родство образов капитана Бураева и капитана Шеметова из рассказа. Получается в некотором смысле соотнесенность читательского восприятия с кинематографическим эффектом «вспышки назад», только здесь это — и «вспышка вперед»: таким, как Шеметов, непременно должен был стать в годы войны капитан Бураев. Шеметова ценили за храбрость, за добросердечное отношение к солдатам. В своих духовных исканиях он пытался найти разгадку происходящего, обращаясь к христианской вере. Первая глава романа «Солдаты» имеет название «Перед войной». Уже в самом начале повествования капитан Бураев представлен как отец солдатам, с которыми у него установлены взаимно теплые отношения. Об этом свидетельствует взаимная реакция солдат и командира на успехи роты в стрельбе:
«Этот дружный, надежный залп оторвал ротного от окна. Задумчивые синие глаза его блеснули, веселей оглянули роту, ровные гребешки фуражек, свежие молодые лица, точную линию винтовок, — и молча сказали: молодцы!
" Вот эти… не изменят! " — мелькнуло в нем »1 (курсив наш. — В. З., И. К .).
Обращает на себя внимание звучание эксплицированного лейтмотива внесословного единства армии как необходимого ее основания. А далее он органически переплетается у Шмелёва с ведущим концептуальным лейтмотивом всего его творчества — лейтмотивом соборности русской жизни . Это была ключевая для Шмелёва мысль, и в тексте множество вариаций на эту тему. Так, Бураев после неприятного инцидента с грубым семинаристом с радостью встретил понимание в лице старого швейцара, оказавшегося бывшим солдатом:
«Бураев был растроган этой неожиданной встречей. Не мог он равнодушно проходить мимо героев, особенно мимо солдат-героев. "Как знаменательно-то вышло", — думал он, — только что были хулиганы, молодежь… ни чести, ни отваги, и тут же рядом, старый человек, прямой и верный! И сколько их таких, невидных. Ими и жива Россия, на всех путях… Суворов в сердце, не забыл и тут…» ( Шмелёв, 1962 : 143–144).
В этом романе главные мысли писателя сосредоточены вокруг армии. Тут много было для Шмелёва личностно-близкого. Именно в таких традициях, о которых идет здесь речь, он воспитывал своего единственного сына Сергея, прапорщика артиллерии, воевавшего в окопах Первой мировой. Известны письма отца к сыну по этому поводу.
Под пером талантливого художника часто не бывает границы между малыми и большими величинами. Даже фрагмент незаконченного произведения может сказать о многом. А перед нами — значительная часть романа, вобравшего в себя любимые думы писателя. Текст Шмелёва, законченный ли или нет, всегда онт ологически укрупнен, аксиологически значим.
Устремленность писателя к выражению важнейших черт русской духовной ментальности делает его произведения национальным достоянием.
Действие рассказа «Свет Разума» происходит в Крыму в 1920-х гг. Речь в нем идет о случае, произошедшем в маленьком приморском городке в дни Рождества и Крещения. Композиционно эта вещь построена на излюбленной Шмелёвым форме «рассказ в рассказе». К автору-повествователю, живущему на горе, поднимается снизу из города дьякон «поделиться сомнениями», ибо он оказался участником необычайного действа.
В этом рассказе Шмелёв вновь продемонстрировал известное еще по его дореволюционным произведениям — повестям «Гражданин Уклейкин», «Человек из ресторана», затем — «Не-упиваемая чаша» — умение мастерски пользоваться сказовой формой письма. В рассказе «Свет Разума» диалогические реплики почти условны, главное — это монолог-рассказ дьякона о выпавшем на его долю и долю его паствы испытании.
Заглавие рассказа — его основной структурообразующий лейтмотив: строки праздничного рождественского тропаря «Возсия мирови Свет Разума» варьируются в различных контекстах, ведя за собою повествование. Драматически вопрошающе звучат в сознании повествователя эти строки в начале рассказа, ибо в пору лихолетья пошатнулась его надежда. Пришедший к нему дьякон укрепил его душу своим рассказом. Трогательно описал он Рождественскую службу в темном храме, без свечей, в отсутствие уведенного чекистами батюшки, но при полном стечении народа. «Свет во тьме светит, и тьма его не объя», — так впервые проповедовал «на слово» дьякон и призывал: «Нет у нас свечек, <…> возжем сердца!» — «И возжгли!» — рассказывает он далее: «Пататраки, грек, принес фунт стеариновых! Вот вам и… "свет во тьме"! И справили Рождество»2. А затем через восприятие дьякона дается главное событие рассказа — посрамление новообъявленных сектантов, оскорбляющих чувства православных верующих и пытавшихся смутить народ своим еретическим крещением, одобряемым властями. В страстный монолог дьякона Шмелёв вложил глубокие, искренние чувства простого православного человека, ощущающего мощную потребность духовного противостояния злу, утверждения исконных основ древнего русского благочестия. «Народ, — рассказывает он, — "Спаси, Господи, люди Твоя" поет всеми голосами <…> Прямо, скажу, стихия объявилась! Восемнадцать человек враз приплыли со крестами, семеро без крестов, но со знамением на челе радостным <…> Праздников Праздник получился. И всем народом — "Спаси, Господи", — ко храму двинулись» (Шмелёв, 1998: 87).
Собеседник дьякона тоже почувствовал невыразимое облегчение. Его вопрошающая дума: «Славить Христа — кому? Кому петь: "Возсия мирови Свет Разума?‥"» — получила утверждающий ответ и надежду ( Шмелёв, 1998 : 76).
Используя мощную внутреннюю энергетику сказа, его особенности психологизации через речевую стихию героя из народа, Шмелёв создает светло-наивную поэму о неугасимости самых главных начал православной веры в народном мироощущении: ее высокой духоподъемности, приверженности любви и милосердию, верности заветам предков и — трогательной соборности мировосприятия.
В творчестве Б. К. Зайцева идея соборности русской жизни многомерно раскрыта в его заглавном произведении — тетралогии «Путешествие Глеба», в его повести «Сергий Радонежский». Если же говорить о ее проявлении в пореволюционную эпоху, стоит обратить внимание на роман «Золотой узор» (1926).
Основная идея романа — обретение веры главной героиней, певицей Натальей Алексеевной, изображение ее духовного пути, драматического и в то же время просветленного в итоге. Выделим эпизоды, связанные с возвращением героини в Россию из Италии во время Первой мировой войны.
Укрепляющееся православное мироощущение помогло Наталье Алексеевне ощутить события войны как вселенское несчастье и в то же время как несчастье каждого, даже если оно еще не коснулось кого-то лично. Вернувшись домой, она идет работать в деревенский лазарет. Однажды ночью после дежурства Наталья Алексеевна прошла к церкви и кладбищу. Эмоции, охватившие ее у древней плиты с надписью, многое расставили по местам в ее душе:
«Никто же весть ни дня, ни часа, егда придет Сын Человеческий», — надпись запомнила я еще днем. Великий мрак сошел мне в душу, великая печаль и умиление. <…> Трагедия, но не боюсь. <…> и из хоралов вечности и человечности я, будто просыпаясь, перешла к обыденному. <…> я встала с Апокалипсиса своего, пошла на землю»3.
Во многом благодаря русской деревне, как показывает автор, Наталье Алексеевне дано было ощутить причастность и своему народу, и своей земле, и своей вере. Мотив древности здесь, в «русских главах», — ведущий у Зайцева: «Вечер деревенский, тоже древний» ( Зайцев, 1999 : 93).
Показательна главка о пасхальном богослужении в деревне, где автор воссоздает удивительную и такую органичную атмосферу русской соборности через образное восприятие Натальи Алексеевны:
«— Христос воскресе!
— Воистину воскресе!
Где война, ужасы и окопы? <…> Где сутолока революции? <…> Над церковью нашей деревянной, скромной, ветер попритих. Древние камни могил княжеских, с темною вязью надписей замшелых, так торжественны, и так громадна сила Ангела, в сей день таинственно отваливающего плиту. <…> Дома отец у самовара. <…> Стол убран празднично, по-барски, древней Русью » ( Зайцев, 1999 : 126).
Крепость древней веры народа, осознание им соборной сопричастности духовным основам православия оказались, как показывает автор, главенствующим фактором и в становлении Натальи Алексеевны как певицы, как человека искусства. Это, конечно, было особенно важно для Б. Зайцева, который бесповоротно решил для себя вопрос о неразрывности в своей жизни православного мировосприятия и творчества.
И. А. Бунин, выросший в провинциальной хуторской усадьбе, превосходно знал и любил русскую деревню. В его самых ранних рассказах 1890-х гг. есть прекрасные примеры, свидетельствующие о глубинном понимании молодым писателем православно-христианских основ национального бытия, его органической соборности. Это рассказы «Святые горы», «Кастрюк», более поздние — «Птицы небесные» (1908), в эмиграции — рассказы-шедевры бунинской прозы «Косцы» (1921) и «Лапти» (1926). В каждом из них нашли отражение самые разные грани соборных начал русской жизни в дооктябрьский период. Осмысление же Буниным этих начал в эпоху социальных катаклизмов находит отражение в его рассказе «Из записей неизвестного» (цикл «Под серпом и молотом» (1930).
«Записи…» представляют краткие фрагменты впечатлений повествователя, на которого современная ему послереволюционная действительность действовала удручающе и от который он постоянно уезжал из Москвы, стараясь приобщиться к уцелевшим еще «древностям»:
«Я <…> на целый день уехал из Москвы — целый день провел в деревне, в одной усадьбе»4.
Повествователь постоянно разочаровывается в современности, но в душе стремится обрести надежду и веру в тех еще уцелевших очагах русской духовности, которые хранили ее издревле, — в монастырях. Символичной оказалась встреча героя с монахами в Макарьеве. Они перевозили на пароме древний чудотворный образ. Паром «шел <…> в глубоком молчании. Золотые хоругви, белый престол с образом, белые балахоны возцов и черные рясы сопровождающих образ. Все фигуры — и белые и черные — сажень ростом, великаны…» (курсив наш. — В. З., И. К.) (Бунин, 1991: 168). Не случайно у автора поставлено многоточие после такого значимого слова «великаны»: Бунин умеет скупосдержанно, но пластически-выразительно передать читателю свое восхищение подвигом монахов, решавшихся на подобные поступки в эпоху обострившихся гонений на церковь. Величие несломленного соборного духа сумел увидеть и запечатлеть Бунин в этой «паломнической миниатюре», колоритной, пластически выразительной. Часто именно через визуальный ряд Бунину удается многое наиболее точно выразить. Это качество бунинского художественного сознания, многогранно проявленное во всем метатексте его прозы, означает органическую «вписанность» Бунина в традиции русской словесности (см.: [Есаулов, 2004: 117]).
Надежда Бунина на соборность как непреходящее начало русской жизни была определенно связана с ролью православной церкви. В одной из главок «Записей…» есть эпизод о посещении повествователем по пути в Данилов монастырь могилы Гоголя, за которой, как он узнал, ухаживали монахи. Здесь собирательный образ монахов лишь упоминается , а в более ранних эпизодах о посещении Макарьева, Троице-Сергиевой Лавры автор прибегает к кинематографическим приемам: образы монахов даны в движении — проплывающие на пароме, проходящие сквозь толпу. Но главное здесь в том, что возникает эффект вневременного бытия этих героев, их причастности к русской жизни, если не «здесь и сейчас», то в историческом целом России.
Даже на примере этого небольшого цикла в прозе Бунина о пореволюционных годах в России обнаруживается глубоко им осмысленная художественно мысль о неумирающей в народе традиции соборного мирочувствования.
У Л. Ф. Зурова, младшего современника писателей первой волны эмиграции, талантливого ученика И. А. Бунина, в произведениях разных жанров: в романах, повестях, рассказах — мысль о соборности национального бытия можно считать лейтмотивом. В разных произведениях она раскрывается на примере различных периодов русской истории (например, в повестях о древнем Пскове — «Отчина», «Обитель»). Выделим некоторые примеры из произведений Бунина, посвященных исследуемой нами эпохе.
Первым произведением, принесшим автору известность, стала автобиографическая повесть «Кадет» (1928). События революции и гражданской войны даны в ней через восприятие 15-летнего ярославского кадета Мити Соломина. По-бунински эмоционально скупо, в сдержанных интонациях, исключающих «прорывы» экспрессивной оценки даже жестоких сцен, свидетелем которых был юный герой повести, ведет повествование Зуров.
События повести происходят в течение нескольких месяцев 1917–1918 гг.; через восприятие главного героя дается последовательное развитие драматических жизненных ситуаций, связанных с неудавшейся попыткой ярославских кадетов вместе со своими командирами отстоять свой город от красных, выполнить до конца свой воинский долг перед Отечеством так, как они его понимали, как присягали. Поэтому эмиграция становится для героя неизбежной.
Сюжетное движение в повести сопровождается лирической эмоцией, которая у Зурова антиномична. С одной стороны, в душе героя доминирует печаль-сожаление об ушедшей жизни, об утерянном рае, какой была в сознании Мити изломанная революцией жизнь России, а с другой стороны, это печаль-недоумение о причинах вырвавшихся наружу страшных разрушительных начал этой жизни, свидетелем ужасающего действия которых он стал.
С поэтизацией устойчивых начал жизненного уклада у Зу-рова связано и его восприятие соборности русской жизни . В самом начале повести автор приводит размышления матери Мити, когда тревогу вносили только слухи:
«Дорогой она думала, что крестьяне любят ее за частую помощь, за бесплатное лечение, за подаренную им несколько лет тому назад тысячу десятин земли. Она вспомнила, как мужики отстаивали во время пожара надворные постройки. Как они при виде ее скидывали шапки, а приходя в имение, ловили ее руку и благодарили горячими, казалось, шедшими от сердца словами»5.
Однако неизъяснимые разрушительные начала все же брали свое в эти годы.
Автор выделяет нескольких эпизодических персонажей, выполняющих важные функции. Среди них — лесник Михаил:
«Михаил был верный. Это был высокого роста мужик, японской войны унтер-офицер <…>. Митя любил Михаила. Лесник научил его повадкам дикой птицы и стрельбе влет» ( Зуров, 1999 : 178).
Именно Михаил спасает Митю от жестокой мужицкой вольницы.
Трогательно милосердной показана в повести бывшая няня. Когда раненый Митя, сброшенный солдатами с поезда, появился у нее в доме, она не просто приняла его у себя, а предложила ему все свои сбережения. Митя от них отказался, но, засыпая, «тихо улыбнулся. Словно солнечный луч промелькнул» ( Зуров, 1999 : 216). Стоит добавить, что няня сказала Мите о своем решении передать эти деньги в церковь.
В этом же ряду персонажей, манифестирующих вековую органичность соборного начала русской жизни, — «случайный» герой повести: мужик, наблюдавший за молодыми добровольцами в деревушке на отдыхе и попросившийся вновь на службу. Архип Семенович, как звали старого солдата, воплощает, с одной стороны, отеческое, защитное начало, а с другой — его наставительную, воспитательную функцию — передачи молодому поколению главнейших нравственных постулатов. Так, на вопрос Мити, что же теперь будет, фельдфебель отвечает:
«По кому теперь человек должен равняться? <…> Вот запомни, что старик говорит. За Богом молитва, а за Царем служба не пропадет. Идти бодро, весело на врага, не сильной, не дюжой бьет, а смелый, упорный и храбрый. Держи коня сытого, шашку вострую, догонишь врага и побьешь… Так было по старине, а теперь этого нет , — сказал он и поник головой. — Самое первое плечо погибло, — добавил он грустно» ( Зуров, 1999 : 256; курсив наш. — В. З., И. К .).
Трудно переоценить значение образа старого фельдфебеля в повести, настолько емко он выражает замечательные качества национального народного характера: глубокое чувство соборного единения, верности солдатской присяге, христианским нравственным традициям и осознание трагедийности их разрыва.
Убедительное художественное выражение получает категория соборности в неоконченной повести «Иван-да-марья»6. В аспекте концептуального осмысления проблемы неоконченного произведения она нами рассматривалась ранее [Громова, Захарова]. Утвердить в повести представление о соборности русской жизни для Зурова было очень важно. Это укрупняло аксиологическую составляющую произведения, вводило повествование в многовековое русло национальной духовно-нравственной традиции.
Писатель лейтмотивом проводит мысль о существовании в русской жизни чувства внесословного национального единства как естественного, нормального состояния равновесия человека и мира. Так воспринимали его буквально все герои Зурова.
В эпизоде повести, когда молодые люди зашли к старому пасечнику, рассказчик подчеркивает:
«Брат, склонясь к нему, слушал. Он, как и мама, среди крестьян и солдат чувствовал себя хорошо, свободно и просто…» ( Зуров, 2005 , № 8: 102).
Показательно, что разработка категории соборности в поэтике зуровского повествования неразрывно связана с разработкой категории национального характера. Это сообщает тексту значительную семантическую уплотненность, онтологическую масштабность. Повесть Зурова «Иван-да-марья», хотя и является незаконченным произведением, вполне может претендовать на отношение к себе как к завершенному в целом, имеющему отчетливо выраженную авторскую концепцию, содержащему узнаваемые черты художественного метатекста писателя.
Творчество В. А. Никифорова-Волгина органично вписывается в представленный типологический ряд. В его малой прозе проявляются нравственные доминанты характера русского человека: доброта сердца, потребность сострадать и жертвовать собой во благо другим и — чувство соборного мировосприятия русских людей.
В. А. Никифоров-Волгин до конца жизни главной задачей считал просвещение народа и воспевание традиционных ценностей Руси первоначальной, утраченных в смутные годы Гражданской войны. Потому, должно быть, в прозе писателя возникают два противоположных образа: святой Руси и России разбойничьей. А. М. Любомудров справедливо отмечает: «Две России постоянно присутствуют в художественном мире Волгина: разбойная, вбивающая гвозди в Богородичную икону, — и монашеская, молитвенная» [Любомудров: 15].
По поводу значимости соборного мировосприятия народа, отраженного в творчестве В. А. Никифорова-Волгина, верно замечено А. Ю. Конюховой, что для многих его героев соборность, «которая возможна в храмах и монастырях, становится спасением от одиночества и мятежности» [Конюхова: 124]. Это утверждение особенно верно по отношению к произведениям пореволюционных лет. Отметим рассказы «Архиерей» (1925), «Московский миллионщик» (1938), «Весенний хлеб» (1938) и повесть «Дорожный посох» (1938). Уходящий или уже ушедший мир, где соборность представляла собой национальную доминанту русского народа, в названных произведениях предстает идиллическим топосом.
Рассказ «Архиерей» написан в традициях христианского хронотопа, что понятно по заглавию. Эта особенность русской литературной традиции была верно подмечена В. Н. Захаровым: «Православие обусловило христианский хронотоп русской литературы. Во многих произведениях время представлено не датами (веками, годами, месяцами), а христианскими праздниками. <…> До сих пор христианский хронотоп почти не прочитан в русской литературе» [Захаров: 24]. Мотив приобщения ко всеобщим христианским радостям и горестям в рассказе «Архиерей» связан с мотивом трагического отречения от тысячелетней традиции, вызванного революционного изломом.
С первых строк рассказа мы отмечаем созерцательное спокойствие, с которым епископ Палладий смотрит на опустелый после революционной бури монастырь. Пейзаж, каким видит его герой, импрессионистичен в своей сиюминутности и тонок благодаря высокой художественной выразительности:
«Опускаются летние, задумно-тихие сумерки. Благостно, лиловато, недвижно. <…> Золотым жаром пламенеет крест на монастырском соборе»7.
Никифорову-Волгину удается передать действительно русские образы: образ тихо спускающихся на землю летних сумерек и образ золотого креста. Отметим, что создание эффекта такой практически невозможной тишины обладает онтологической значимостью: сама природа затихла, задумалась вблизи покинутого монахами, почти заброшенного монастыря, который епископ Палладий сравнивает с разрушенным Иерусалимом. Глубинная слитность монастырского топоса и природы указывает на важность осмысления христианского хронотопа в контексте не только одного рассказа, но и всего метатекста писателя.
В. А. Никифоров-Волгин подчеркивает стремление простого келейника Иллария не оставить епископа, следовать за ним и нести свет веры и во время лихолетья:
«С первых дней революции все отошли от Палладия, и только Илларий, семидесятилетний келейник, остался» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 554).
Их быт теперь скромен, но упорядочен и тих. В одной из наших работ мы уже анализировали образы героев-хранителей монастырского уклада в годы социальных катаклизмов в рассказах В. А. Никифорова-Волгина [Захарова, Кудрявцева: 139–148]. Двое монахов из рассказа «Архиерей» продолжают чтить традиции, остаются носителями традиционных ценностей русского народа. Но за стенами монастыря — трагический образ оставленной России, забывающей свои национальнокультурные традиции:
«…она [Русская земля] представлялась почему-то в виде Гефсиманского сада, из которого в страхе бегут ученики Христовы» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 562).
Службы герои проводят то в амбаре, то на развалинах сожженной церкви. «…Богомольцы стояли под открытым небом и все навзрыд плакали…», — вместо церковного хора в пореволюционные годы службы сопровождают плач и стоны. Неиссякаемая вера, сила, смирение, терпение и, наконец, соборность русского народа вселяет в епископа надежду:
«И замутился бы разум его от отчаяния, если бы мысль епископа не останавливалась <…> на богомольцах, стоящих на снегу на коленях…» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 566).
Встречают монахи на своем пути странника, «старика в рясе и с котомкою за плечами», хранящего в ней алтарь и, как в первые дни христианства, проповедующего веру в Христа потерявшемуся народу. Здесь обнаруживается автотекстуальность: авторскую самоаллюзию на повесть «Дорожный посох» и на свое собственное имя — странник представляется «священником Василием Нильским» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 564). Не потеряна еще вера в спасение русского человека. В. А. Никифоров-Волгин жизнеутверждающе намечает путь исцеления России: путь веры в Христа и самоотверженное служение Ему.
Герои рассказа «Московский миллионщик» — обедневший купец Денис Петрович, который «все миллионы на дым пустил. <…> размытарил их по московским кабакам да притонам», и его помощник дедушка Гуляй, «богоносная душа» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 368). В преддверии смутных лет герои ведут нищенскую жизнь, но нищета нисколько не удручает их, а, наоборот, воспринимается ими как Божий промысел:
«Время сберегать и время бросать. Лучше гость с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа!» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 370).
Горожане милостивы, не оставляют в беде бывшего богача и его слугу, подают «по копейке» им на хлеб насущный. Так проявляется присущая русскому человеку соборность, жалостливость, невозможность оставить другого в беде. С духовным оптимизмом относятся Денис Петрович и дедушка Гуляй к своему положению, иронично предостерегая подсевшего к ним мальчика от блох:
«Близко не сиди с нами, сынок! Блошками тебя наградим. Хоть и веселые эти блошки, но зело ехидные!» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 372).
На смертном одре Денис Петрович радостно встречает мальчика, которого видит второй раз, но воспринимает как посланника Божьего, «гостя ненарадованного» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 375). Герои благодарны едва знакомому мальчику за столь неожиданный визит, широко встречают они его леденцами и пряниками. Внезапный предсмертный крик прерывает потчевание. Мальчик обращает внимание на одну деталь, пока священник поет последование «на исход души»:
«Я смотрел на глиняную кружку, из которой Денис Петрович прихлебывал чай» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 380).
В. А. Никифоров-Волгин не дает никаких пояснений, но имплицитно обращает внимание читателя на хрупкость и быстротечность земной жизни человека. О светлой памяти погребенного Дениса Петровича позаботился его верный слуга, прибив к кресту визитную карточку с золотым обрезом: «Коммерции советник Денис Петрович Овсянников» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 380).
Примером художественного воплощения соборной жизни и тихого странничества православного священника и его паствы является повесть В. А. Никифорова-Волгина «Дорожный посох». В сюжете повести очевидны православные темы: спасение, страдание и сострадание, духовное странничество.
Главный герой — деревенский священник Афанасий. Повесть написана в традициях дневниковой прозы, повествование ведется от первого лица. Образ Афанасия складывается из описанных им самим впечатлений, переживаний и занятий:
«Каждое новолетие я встречаю с тревогой. Идет что-то грозное на нашу землю. В чем оно выразится — не может вообразить душа моя, она скорбит только смертельно!» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 609).
В этих строках — искреннее беспокойство священника о мире вокруг него, о будущем России и русского человека: душа деревенского священника скорбит о потерянном, отчаявшемся русском народе. Одной из ведущих национально-ментальных черт, проявляющихся в мировосприятии деревенского священника, является стремление к соборности.
Красочно и по-христиански радостно художественное воплощен праздник Крещения: Никифоров-Волгин создает объемную панораму крестного хода, используя цветовые, световые, звуковые маркеры праздника:
«Любо глядеть, когда русский народ идет в крестном ходе и поет! Лицо у него ясное, зарями Господними уясненное. Троекратным погружением креста в прорубь мы освятили наше озеро. С какой светоносной верою русский человек пил освященную воду, мылся ею, сосуды наполнял, дабы в смертный час испить ее как Причастие!» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 612).
Православный обряд крестного хода содержит в себе глубокий отпечаток соборности. Человек в этом движении приобщается к общему христианскому делу, потому «любо» глядеть на «просветленное» лицо его. В этот миг, подмечает Никифоров-Волгин, вера человека становится «светоносной».
В русской литературе литургический сюжет разрабатывался мало. Описание церковных служб стало предметом широкого художественного осмысления лишь в XX в. в текстах И. С. Шмелёва, Б. К. Зайцева, И. А. Бунина, Л. Ф. Зурова. А между тем лишь в церковной службе состояние духовной целостности человека достигает вершины. Принятие другого человека, любовь к нему и до конца не осознанная радость единения друг с другом — вот лейтмотив литургии. В страшные пореволюционные годы литургия обнажает горести народа и подчеркивает силу молитвы: «Господи, спаси! Матерь Божия, заступи!» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 629). Отметим, что в повести церковная служба носит печать трагического излома русской традиции. В ранних же произведениях Никифорова-Волгина, например, в рассказе «Двенадцать Евангелий», отмечается синхронность и действий, и чувств людей, пришедших на Божественную литургию. Так, всего одним словом «милостивые» автору удается указать на Великую Благодать, сошедшую на всех присутствующих в церкви:
«У всех зажглись свечи, и лица людей стали похожими на иконы при лампадном свете, — световидные и милостивые» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 63).
В повести «Дорожный посох» Никифоров-Волгин широко использует тексты молитв:
«Небеса поведают славу Божию, и о делах рук Его возвещает твердь… Он поставил в них жилище солнцу…» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 622; ср.: Пс. 18:2).
Е. А. Осьминина отмечает экспрессивную коннотацию сакральных слов в текстах писателя: «В восприятии Никифорова-Волгина церковнославянизмы, богослужебные песнопения, молитвословия как будто пронизаны всполохами света, сиянием драгоценных камней, волнами волшебной музыки» [Осьминина: 218]. Исследуя образ сакрального церковнославянского слова на примере рассказа «Молнии слов светозарных», Е. Л. Сузрюкова отмечает: «Все церковнославянские слова для рассказчика пронизаны божественным светом…» [Сузрюкова: 188]. Мы же отметим, что всеобщая молитва в храме и за его пределами становится одним из способов художественного воплощения категории соборности.
Отцу Афанасию свойственно всепрощение, жалостливость и милость. Он — настоящий пастырь, «отец» для своих прихожан. Потому его болезнь становится горем для всего деревенского люда:
«Когда здоров священник и горя он не ведает, то не особенно ублажает его деревенский народ: насмехается, грубые слова ему вслед бросает, песни нехорошие про него поет, но заболей священник — народ душу свою отдаст, чтобы вернуть его, помочь ему… Одинокий он, русский человек, и только священник еще «отцом» ему является… Хоть и недостойным зачастую, но все же родным и нерасстанным…» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 614).
В этом всепроникающем понимании и сострадании выразилась одна из черт русского человека. Главная идея у Никифорова-Волгина схожа с той, что Н. О. Лосский называет «русской национальной идеей» — это христианская идея, на первом плане которой — любовь к страдающим, жалость, внимание к личности [Лосский: 23]. Потому «не отречется от Христа народ русский! Пойдет к Нему, все Ему расскажет, покается и сядет у ног Его…» (Никифоров-Волгин, 2018: 620).
Стремление к соборности особенно усиливается в тяжелые моменты испытаний, гонений на православную церковь: оставлять на поругание чудотворную икону народ не готов, потому сообща спасает святыню:
«— Так слушайте же меня, чадца моя! — говорю им шепотом. — Чудотворную икону мы должны спасти! Не отдадим ее на поругание!
Савва Григорьевич все понял. Молча пошел в чулан и вынес оттуда топор, долото и молоток. Перекрестились мы и пошли…» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 640).
Отметим свойственный Волгину художественный прием: природа является другом человека, когда тот идет на доброе дело, природа — маркер неверных решений в жизни народа:
«На наше счастье, Владычица засыпала землю снегом. В городе ни одного фонарика, ни голосов, ни собачьего лая. Так тихо, словно земля душу свою Богу отдала» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 640).
Текст исторически укрупняется благодаря связям не только с событиями дня настоящего, но и благодаря параллелям с глубоким прошлым:
«Не так ли и предки наши уносили святыни свои в леса, в укромные места, во дни татарского нашествия на Русь?» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 641).
Гармония, описанная Никифоровым-Волгиным, разрушается отказом человека от Бога; хулиганство, драки и пьянство простого люда, отрекшегося от Христа, вызывают у отца Афанасия глубокие переживания и внутреннее желание если не вернуть заблудшую овцу в стадо, то хотя бы облегчить ее страдания. Особенно выразительно это представлено в эпизоде, где деревенский священник оказывается заточен в одной камере с преступниками:
«На Страстной неделе соузники мои изъявили желание исповедоваться передо мною и в одну из ночей я принял их сокрушенную, отчаянно русскую исповедь… В знак раскаяния они целовали мой нательный крест» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 649).
В утешении кающихся явственно обнаруживается важность прощения.
Во всех представленных произведениях В. А. Никифорова-Волгина отмечается стремление к всенародному единению и потребность в общении с Богом, понимание того, что в метели революции русский человек нуждается в Божьей милости и утешении.
Подводя итоги, заметим, что категория соборности — одна из важнейших, присущих нашему национальному самосознанию — в русской литературе осмысляется с древнейших времен. В творчестве представленных нами отечественных писателей ХХ в. обнаруживается ее глубокое постижение. В поэтике рассмотренных произведений осмысление этой категории выразилось через различные индивидуально-авторские особенности.
Художественному сознанию И. С. Шмелёва свойственно экспрессивное выражение чувств, эмоциональных состояний героев. При этом в его текстах значимыми являются сюжетные ситуации, в которых через действия, высказывания героев непосредственно раскрывается суть осмысляемых явлений. Таковы приведенные выше эпизоды, связанные с образом главного героя романа «Солдаты», прапорщика Бураева, и выражающие сплочающее армию чувство всесословного единства. В рассказе «Свет разума» в центре внимания автора — необычайное событие празднования Крещения в Крыму в пору революционного лихолетья. Здесь у Шмелёва проникновенные мысли о непоколебимости соборного единения русских людей страстно выражает скромный местный диакон.
У Б. К. Зайцева, И. А. Бунина сюжетные ситуации чаще имеют подтекстово-ассоциативный, символический смысл, который проявляется в личностном приобщении к древнейшим духовным истокам. Так, в романе Б. К. Зайцева «Золотой узор» сюжетная ситуация — работа героини в лазарете — лишь обозначает это чувство, но на эмоциональном уровне присущее героине чувство единения со своим народом выражено тонко.
Рассказ И. А. Бунина «Из записей неизвестного», как можно было убедиться, несмотря на заданную фрагментарность повествования, определенно обладает целостностью текста благодаря лейтмотивной связанности. И одним из концептуальнозначимых лейтмотивов здесь является мотив «вписанности в вечность» национальных духовных традиций. Этому способствует и свойственная письму Бунина визуальная доминанта, запечатлевающая необходимое особенно ярко (эпизод в Макарьевом монастыре). Недаром Л. Ф. Зуров считался учеником И. А. Бунина: его поэтике тоже присущи подобные черты — лейтмотивная основа текстов, визуализация впечатлений. В исследовании художественного осмысления категории соборности именно эти черты проявляются более всего. В этом можно было убедиться на примере повестей Зурова «Кадет» и «Иван-да-марья». Важную роль у него играют эпизодические персонажи: к примеру, в повести «Кадет» это няня, лесник Михаил, бывший фельфебель Архип Семенович. У В. А. Никифорова-Волгина оригинальность художественного мышления при осмыслении проблемы существования традиции соборности в русской жизни, несмотря на жесточайшие перипетии, часто выражается в экспрессивно окрашенных драматических сюжетных ситуациях: одной из таких, например, в повести «Дорожный посох», является сцена спасения народом чудотворной иконы. Однако и лейтмотивная основа его текстов дает о себе знать. Идею соборности вполне можно назвать концептуальным лейтмотивом многих произведений писателя.
Итак, можно с уверенностью сказать, что в произведениях И. А. Бунина (рассказ «Из записей неизвестного», входящий в цикл «Под серпом и молотом»), И. С. Шмелёва (неоконченный роман «Солдаты», рассказ «Свет Разума»), Б. К. Зайцева (роман «Золотой узор»), Л. Ф. Зурова (повесть «Кадет», неоконченная повесть «Иван-да-марья»), В. А. Никифорова-Волгина (рассказы «Архиерей», «Московский миллионщик», «Весенний хлеб», повесть «Дорожный посох») обнаруживается «живая жизнь» органического соборного самосознания русского народа, помогающая ему сохранить свою веру и выстоять во времена тяжких испытаний.
Список литературы Художественное осмысление соборности в прозе русского зарубежья (И. С. Шмелёв, И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, Л. Ф. Зуров, В. А. Никифоров-Волгин)
- Громова А. В., Захарова В. Т. Жизнь и творчество Л. Ф. Зурова: монография. М.: МГПУ, 2012. 134 с.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1995. 288 с.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 560 с.
- Захаров В. Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 6–31 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2472 (20.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2472
- Захарова В. Т., Кудрявцева И. С. Художественное осмысление колокольного звона в прозе русской эмиграции (И. С. Шмелёв, И. А. Бунин, В. А. Никифоров-Волгин) // Православие и русская литература: сб. ст. участников VIII Всеросс. науч.-практ. конф. с Междунар. участием (18–19 мая 2023 г.) / отв. ред. С. Н. Пяткин. Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2023. С. 139–148.
- Конюхова А. С. Творчество В. А. Никифорова-Волгина: поэтика сюжета и типология героев: дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2021. 201 с.
- Кутырина Ю.А. Шмелёв Иван. Солдаты. Предисловие // Из АрхиваМузея Ивана Сергеевича Шмелёва, хранимого Ю. А. Кутыриной. Париж: [Изд. Русского научного института при Русской Академической группе в Париже], 1963 (обл. 1962). С. 3–5.
- Лосский Н. О. Характер русского народа. [Frankfurt a. M.]: Посев, 1957. 152 с.
- Любомудров А. М. Вступ. ст. // Никифоров-Волгин В. А. Светлая Заутреня: сборник прозы. М.: Сибирская Благозвонница. 2018. С. 5–29.
- Мартынов А. «Солдаты»: к истории создания романа // И. С. Шмелёв и проблемы национального самосознания (традиция и новаторство). М.: ИМЛИ РАН, 2014. С. 332–343.
- Осьминина Е. А. Тексты церковных песнопений в циклах «Детство», «Из воспоминаний детства» В. А. Никифорова-Волгина // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2015. № 5 (716). С. 216–226 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23572065 (20.07.2023). EDN: TVVNEV
- Сузрюкова Е. Л. Язык образов в рассказе В. А. Никифорова-Волгина «Молнии слов светозарных» // Культура и текст. 2021. № 3 (46). С. 185–195 [Электронный ресурс]. URL: https://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2021/10/185-195.pdf (07.02.2023). DOI: 10.37386/2305- 4077-2021-3-185-195
- Шешунова С. В. Образ мира в романе И. С. Шмелёва «Няня из Москвы». Дубна: Межд. ун-т природы, общества и человека «Дубна», 2002. 99 с.