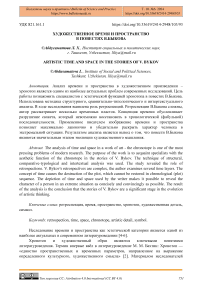Художественное время и пространство в повестях В. Быкова
Автор: Абдусаматова Л.Х.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 6 т.10, 2024 года.
Бесплатный доступ
Анализ времени и пространства в художественном произведении - хронотоп является одним из наиболее актуальных проблем современных исследований. Цель работы познакомить специалистов с эстетической функцией хронотопа в повестях В.Быкова. Использована методика структурного, сравнительно-типологического и интертекстуального анализа. В ходе исследования выявлена роль ретроспекций. Ретроспекции В.Быкова сложны, автор рассматривает несколько временных пластов. Концепция времени обусловливает разрушение сюжета, который невозможно восстановить в хронологической (фабульной) последовательности. Примененное писателем изображение времени и пространства позволяет максимально лаконично и убедительно раскрыть характер человека в экстремальной ситуации. Результатом анализа является вывод о том, что повести В.Быкова являются значительным этапом эволюции художественного мышления.
Ретроспекция, время, пространство, хронотоп, художественная деталь, символ
Короткий адрес: https://sciup.org/14130220
IDR: 14130220 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.33619/2414-2948/103/93
Текст научной статьи Художественное время и пространство в повестях В. Быкова
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 821.161.1
Исследование времени и пространства как эстетической категории является одной из наиболее актуальных в современном литературоведении [4-6].
Хронотоп и художественный образ являются ключевыми понятиями литературоведения. Термин впервые ввёл в литературоведение М. М. Бахтин: Хронотоп — «единство пространственных и временных параметров, направленное на выражение определенного культурного, художественного смысла» [2]. Материалом исследователей хронотопа являлись преимущественно классические романы. Не менее важную функцию несут время пространство в повестях Василя Быкова.
И пространство, и время в повестях «Третья ракета» и «Альпийская баллада» всегда четко обозначены. Описание одного дня жизни семерых людей занимает почти весь объем текста в повести «Третья ракета». При наличии ведущего событийного развития с несложной фабулой возникают дополнительные линии, вводимые с помощью ретроспекций. Тесно переплетаясь с основным, сквозным действием, они служат обогащению читательского представления о героях. В повести «Третья ракета» реальные описываемые события занимают одни сутки. Но это только один временной план. Почти половину объема повести занимают ретроспекции, значительно расширяя границы времени и пространства. Почти каждый неэпизодический персонаж обладает ретроспективной характеристикой.
Неравномерно течет время относительно повествования. Так, кроме довоенного времени, герои вспоминают пребывание в госпитале, у каждого в разное время, но у всех, конечно, в период войны, а также военные события. Таким образом, время в ретроспекциях включает как давно прошедшее; так и недавнее: год-два, а порой и три-четыре месяца.
Время растягивается в прямой пропорциональности к экстремальности описываемых событий: чем сложнее, накаленнее обстановка, тем медленнее «идет» время, то есть тем подробнее оно описывается. Обостряется и чувство времени. Основной временной план– описание одного дня занимает более половины объема повести: «страшней, чем сегодня, мне никогда уже не будет» [1]. Здесь получили воплощение не только категории природного и исторического времени, но и специфические формы переживания времени повествователем. При описании событий на протяжении всей повести применяются глаголы настоящего времени, кроме ретроспекций и диалогов. И объем повести, и течение времени в ней подчинены одной задаче — передаче психологического состояния героя-повествователя. Поэтому менее напряженное время - ночь - описывается более обобщенно. Течение времени передается и здесь, ход его обозначается описанием луны. Эти описания мотивированы: герой-повествователь находится на посту. Время природы и время человеческой жизни вступают в теснейшее взаимодействие и взаимопроникновение. А течение времени днем, когда герои испытали неимоверные физические и психологические нагрузки, отслеживается четко и конкретно — по часам. Художественная деталь — часы на руке убитого командира, рефреном проходящая через ткань повести, становится символом: человек умирает, жизнь останавливается, но время идет.
Границы времени и пространства в «Альпийской балладе», по сравнению с «Третьей ракетой», менее локализованы. Действие происходит в течение 2-3 суток, а границы пространства определяются тем расстоянием, которое успели преодолеть герои повести. Но это только в одном временном пласте. Ретроспекции занимают значительный объем текста. Концепция времени обусловливает разрушение сюжета, который невозможно восстановить в хронологической (фабульной) последовательности, невозможно пересказать. В ретроспекциях применяются различные повествовательные приемы: сны, а некоторые эпизоды по завершенности приближаются к вставным новеллам (сцена с поимкой Ивана в хате).
Ретроспекции вводятся в виде воспоминаний, что специально оговаривается: «Иван, будто издалека, впервые мысленно оглянулся на то, что произошло в этот адски мучительный день» [1, 7]. Каждая ретроспекция представляет собой законченный эпизод со своей завязкой, кульминацией и развязкой. Исход каждого эпизода нам заранее известен – пленение. Снимая фабульный интерес, писатель переключает внимание на выявление причин пленения, исследование поведения человека, оказавшегося в плену. «Не только романа или повести, но даже рассказа нет у Василя Быкова, где бы не разыгрывалась та или иная нравственная коллизия, где бы не вставала проблема нравственного выбора» [3].
Ретроспективные эпизоды противопоставлены эпизодам основного плана повествования. Обыгрывается одна и та же ситуация — встреча пленного и мирного жителя. В основном временном плане Иван сталкивается с австрийцем, в ретроспективном — с жителями украинского села. Но австриец несмотря на то, что у него забрали хлеб и куртку, не выдает пленного, а на Украине Ивана возвращают в плен, причем не немцы, а местные жители.
Еще одна форма ретроспекции – сон. «Всякий раз ему снился один и тот же сон: уже больше года почти каждую ночь он заново переживал муки одного дня войны» [1] — допущенная гипербола позволяет осознать ужас человека, по воле обстоятельств оказавшегося в плену. Назойливо-мучительно вспоминает Иван свои неудачи при попытках побега из концлагеря и сам момент пленения. Подробно и скрупулезно исследуется писателем обстоятельства пленения, психология человека, попавшего в плен. Момент пленения рассматривается с трех точек зрения: 1) сон — подсознательная оценка; 2) ретроспективный анализ в форме несобственно-прямой речи, приближающейся к внутреннему монологу: « никогда не считал себя лично ни героем, ни смельчаком. Будь он решительнее, наверное, не дал бы себя взять в плен, что-то предпринял бы в самый последний момент, который определил навсегда его прошлое и будущее. Наверное, надо было прикончить себя» [1]; 3) объективная оценка — факты, поступки персонажа. В момент пленения был тяжело ранен, в течение года плена четырежды бежал. До пленения «за прежние бои получил три бумажки с благодарностью от командования да две медали «За отвагу». [1]. Совокупность этих средств художественно убеждает читателя не только в невиновности, но в скромности, благородстве и истинном героизме главного персонажа.
В обеих повестях лишь эскизно намечено будущее время. Герои строят планы, мечтают о будущем: «Приглашу тебя в гости … Накроем стол в садике, самовар раздуем» [1]. Знаменательно, что этим мечтам не суждено осуществиться – спустя час строивший эти планы Желтых погибает. Cложны взаимоотношения с будущим у Ивана Терешки. «Конечно, придет время,.. люди испытают великую радость братства, свободную, без границ и запретов, любовь, - только вряд ли суждено им с Джулией дождаться этого… А почему? Почему человек не может иметь маленькой надежды на счастье, ради которого рождается на этот свет и к которому всю жизнь стремится?» [1,А.Б., XXI, 56]. Автор решается прервать жизнь своего героя на самой высокой ноте. Но смерть героя не означает конца. Границы времени и пространства раздвигаются до необъятности в лирических сценах: «Время, казалось ему, остановилось,… И земные недра, и горы, и могучие гимны всех потоков земли согласно притихли, оставив в мире только их двоих» (А.Б., ХХ, 53).
На протяжении всего повествования в «Альпийской балладе» сохраняется временная дистанция между читательской современностью и происходящим в произведении. Но письмо Джулии — эпилог перебрасывает мост в «сегодняшний» день. Время написания письма и время написания повести совпадают. Художественная условность перерастает в реальность. Доброту и героизм Ивана Терешки, несмотря на его гибель, помнят до сих пор, в нашей, реальной жизни.
Художественное пространство повестей не менее значимо, чем время. Стремясь придать документальность, автор всегда точно указывает место происходящего: «фланг огромного фронта в Румынии» [1, 6], зажатый горными кряжами Альп австрийский городок и Лахтальские Альпы.
Роль пространства в сюжете повестей различна. Все действие основного временного плана в «Третьей ракете» сосредоточено практически в одной точке и приковано к пушке. Пространственная ограниченность связана с превращением пространства из совокупности заполняющих его вещей в язык художественного моделирования. Действие возвращается к исходной точке: «я подскакиваю к Задорожному, готовый ринуться в драку, как тогда ночью на этом самом месте » [1]. Но если сутки назад драка между этими же персонажами была обусловлена в значительной мере личными чувствами, то теперь героем движет чувство справедливости. Подчеркнутая пространственная и временная неподвижность высвечивает этическую подвижность героя: «кажется, с утра прошла целая вечность и пережито столько, что иным хватило бы на весь век» [1].
В «Альпийской балладе» герои все время движутся. Вся схема сюжета переплетается с мотивами местности. Но «открытость» пространства кажущаяся. Художественное пространство этой повести линеарно; оно не безгранично, а представляет собой обобщенную возможность движения от исходной точки к конечной. Дорога становится художественным символом. Большинство пейзажных зарисовок служит средством обозначения этапов пути, фиксирует продвижение героев к намеченной цели: «На фоне чуть светлого неба чернели гигантские близнецы ближней вершины, а за ней — другая, пониже. В седловине, вероятно, был перевал, туда и вела тропа» [1]. На этой теме держится и фабульный интерес. Цель оказывается недостигнутой: мотив западни и пропасти трагически замыкает символику дороги. Но движение многозначно: оно получает темпоральный признак, а движущийся в нем персонаж – черту внутренней эволюции. Существенным свойством нравственного линеарного пространства становится наличие признака «высоты»; герои совершают восхождение в прямом и переносном смысле.
Примененное писателем изображение времени и пространства позволяет максимально лаконично и убедительно раскрыть характер человека в экстремальной ситуации.
Список литературы Художественное время и пространство в повестях В. Быкова
- Быков В. Повести. Днепропетровск.: Проминь,1987.
- Бахтин М. М. Эпос и роман. Сборник. СПб.: Азбука, 2000. 304 с.
- Гимпелевич З. Василь Быков: Книга и судьба. М., 2011.
- Капельчук К. А. Художественный и исторический хронотоп: проблема дополнения // Вестник Ленинградского государственного университета им. АС Пушкина. 2013. Т. 2. №2. С. 94-105. EDN: RFMKGT
- Повалко П. Ю. Структура семиотической категории времени в художественном тексте (на материале романа А. Кабакова" Невозвращенец") // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2017. Т. 8. №4. С. 1237-1248. EDN: YQZHWC
- Скуднякова Е. В. Особенности организации пространства и времени в повести ИС Тургенева" Призраки" // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. ИЯ Яковлева. 2019. №4 (104). С. 94-99. EDN: JRWOOZ
- Грицанов А. А. Новейший философский словарь. Минск, 1999. 877 с.