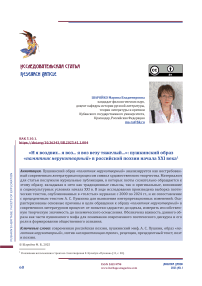«И я воздвиг... я воз... я воз везу тяжелый...»: пушкинский образ «памятник нерукотворный» в российской поэзии начала ХХI века
Автор: Шаройко М.В.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Пушкинское наследие: грани освоения
Статья в выпуске: 1 (41), 2025 года.
Бесплатный доступ
Пушкинский образ «памятник нерукотворный» анализируется как востребованный современным литературным процессом символ художественного творчества. Материалом для статьи послужили журнальные публикации, в которых поэты сознательно обращаются к этому образу, вкладывая в него как традиционные смыслы, так и оригинальные, возникшие в социокультурных условиях начала ХХI в. В ходе исследования произведена выборка поэтических текстов, опубликованных в «толстых» журналах с 2000 по 2024 гг., и их сопоставление с прецедентным текстом А. С. Пушкина для выявления интерпретационных изменений. Охарактеризованы основные причины и цели обращения к образу «памятник нерукотворный» в современном литературном процессе: от попытки «дорасти» до идеала, измерить им собственную творческую значимость до полемического осмысления. Обозначена важность данного образа как части пушкинского мифа для понимания современного поэтического дискурса и его роли в формировании общественного сознания.
Современная российская поэзия, пушкинский миф, А. С. Пушкин, образ «памятник нерукотворный», мотив «незарастающая тропа», рецепция, прецедентный текст, поэт и поэзия
Короткий адрес: https://sciup.org/170209417
IDR: 170209417 | DOI: 10.36343/SB.2025.41.1.004
Текст научной статьи «И я воздвиг... я воз... я воз везу тяжелый...»: пушкинский образ «памятник нерукотворный» в российской поэзии начала ХХI века
Бытование А. С. Пушкина в современности, в частности в литературном процессе начала XXI столетия, как русского классика, гения, как ориентира, эталона («наше все»), совре- менника, друга, соперника в споре актуализирует потребность научного осмысления этого феномена на разных историко-культурных уровнях, предполагающих обращение к биографии поэта, его окружению, творчеству в целом, к отдельным произведениям, мотивам, образам, стилю и языку. Одним из таких обращений может быть исследование образа «памятник нерукотворный» и сопутствующих ему мотивов как составляющих пушкинского мифа в современном литературном процессе.
Пушкинский образ памятника обретает культовое значение и становится литературной мифологемой, определяющей значение поэта и его поэзии, сохранение памяти о творческой личности. Входящие в состав мифоло- литературном процессе, постоянно обновляющемся и пополняющемся новыми именами и произведениями.
Научное освоение пушкинской темы в контексте рецепции его жизненного пути и творчества в произведениях русских писателей, поэтов и драматургов имеет долгую историю. При рассмотрении степени изученности темы остановимся главным образом на обращении конкретно к пушкинскому образу памятника из стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» или аллюзиям к нему.
Для начала необходимо обозначить серьезные исследования произведений в жанре экфрасиса, в которых зачатую инициируется диалог с «бронзовым» классиком. В первую очередь отметим работу Р.О.Якобсона «Статуя в поэтической мифологии Пушкина», в которой раскрываются экфрастические мотивы гемы образы, символы, мотивы как часть универсума русской культуры имеют широкое распространение в национальном литературном пространстве. Несмотря на то, что образ памятника восходит к оде Горация, в отечественной культурной традиции он устойчиво связан с именем А. С. Пушкина. Именно отталкиваясь от его образца, поэты осмысляют, интерпретируют, трансформируют связанные с ним мотивы, заложенные в нем смыслы. На протяжении всего ХХ в. пушкинское начало притягивало к себе, вдохновляло многих поэтов, писателей, художников и анализирующих их творчество исследователей (Рис. 1). «Пушкин, став памятником, продолжает свою жизнь в нашей литературе через творчество других поэтов, которые вступают с ним в диалог, находя в такой беседе лирический выход. Пушкин - тот “каменный ангел”, которому все поэты хотели бы исповедаться, сфинкс, камертон и поэтический маяк, указывающий направление движения» [1, с. 190–191]. Заявленная в исследовании тема не может быть до конца изучена, так как его временные рамки - начало XXI в.- предполагают дальнейшее развитие традиции (в нашем случае, обращение к пушкинскому образу памятника) в современном
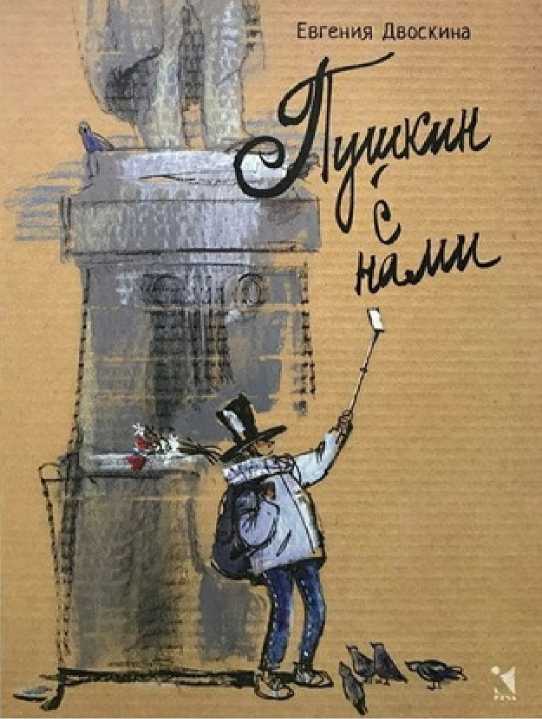
ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ
Рис. 1. Обложка книги «Пушкин с нами», Москва, 2021 [3]; художник Е. Г. Двоскина
Fig. 1. Cover of the book Pushkin Is With Us (“Pushkin s nami”), Moscow, 2021 [3]; artist Evgeniya Dvoskina
PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION
«памятника» [15]. Изучению причин, целей и результатов использования образа рукотворного памятника в стихотворениях А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, М. А. Цветаевой посвящена аналитическая статья Е. О. Айзенштейн [1]. М. А. Александрова рассмотрела стихи Б. Ш. Окуджавы «Александр Сергеич» и «Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину» в системе контекстов экфрасисов, отражающей культовый статус памятника работы А. М. Опекушина, в полемике с традицией стихов «к памятнику» («Юбилейное» В. В. Маяковского, «Памятник Пушкину» И. А. Бродского) [2].
Литературоведческому анализу стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» в контексте развития литературной традиции ХХ в. посвящена одна из глав монографии доктора филологических наук А. В. Ильичева [6]. В результате текстовых сопоставлений и анализа интертекстуальных связей исследователю удалось раскрыть новые смысловые нюансы, лексические ассоциации и историко-культурные аллюзии. К реминисценциям из пушкинских стихотворений о поэте и поэзии в творчестве И. А. Бродского обращается А. М. Ранчин [12]. По мнению автора, в начале своего творчества И. А. Бродский искал в стихах А. С. Пушкина подтверждение неизбежной гибели, то есть судьбы, которая уготована каждому истинному стихотворцу.
С точки зрения жанровой традиции стихотворение А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» рассматривалось в диссертации С.В.Жилякова [4]. В ней исследован жанровый канон и его изменения в исторической перспективе, начиная с древнеегипетской прозы и заканчивая ХХ в. В статье К. А. Нью основным предметом становится метафора поэтического памятника в русской литературе как увековечения заслуг творца во временной и пространственной перспективах [16].
Перечисленные научные труды служат базисом для дальнейшего анализа использования пушкинского образа памятника на новом этапе литературного процесса.
Необходимо отметить аналитические обзоры поэтических текстов пушкинианы XXI в.: на страницах журнальной поэ зии - статья Е. В. Сомовой [13], в интернет-пространстве - работа М.В.Юрьевой [14]. Учебно-методическое пособие «Пушкин в ХХI веке: обзоры, аналитика, поэтические интерпретации» [11] содержит научные статьи по актуальным вопросам современного пушкиноведения, обзоры и рецензии, путеводители по печатным изданиям и интернет-ресурсам, а также обширную подборку вдохновленных творческой личностью классика поэтических текстов XXI в., которые мы привлечем для интертекстуального анализа.
Представляется, что созданным за последнюю четверть века поэтическим интерпретациям пушкинского образа «памятник нерукотворный» пока что не было уделено достаточного научного внимания. Целью исследования поэтому становится определение рецепции данного образа в творчестве современных российских поэтов, что позволит расширить границы дискурсивного смысла пушкинского мифа начала ХХI в.
Объект исследования - поэтические тексты современных российских поэтов, опубликованные в «толстых» журналах в период с 2000 по 2024 гг. Предметом являются интертекстуальные связи этих текстов с прецедентным стихотворением А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный^». Художественные тексты из сборника стихотворений «Поймёднех?! Новые русские вопросы к Горацию» [9], основой которого стал интерес современных поэтов к знаменитой оде «Exegi monumentum», не включены в эмпирическую базу настоящего исследования в связи с тем, что в издании представлены рецепции на первоисточник, а не на пушкинский образец. В качестве материалов исследования не использовались тексты, размещенные на различных интернет-сайтах, посвященных творчеству современных поэтов.
Проанализированы признанные, апробированные тексты, что, с одной стороны, сужает ракурс исследования, а с другой, делает его более предметным, основанным на научном литературоведческом, а не только тематическом анализе.
Заявленное в статье исследование требует применения целого ряда научных инстру- ментов. Методом сплошной выборки найдены произведения, авторы которых сознательно, как прием, использовали пушкинский образ «памятник нерукотворный» и связанные с ним мотивы. Текстуальный и сопоставительный анализ позволил выявить изменяющиеся тенденции в восприятии классических образов русской литературы и А. С. Пушкина как культурной фигуры. Для понимания субъективного опыта авторов, их рецепции пушкинских образов был применен феноменологический подход. Дополняют методологическую базу историко-культурный и социокультурный подходы.
Для процесса выборки знаковыми стали повторяющиеся реминисценции, связанные с пушкинскими образом «памятник нерукотворный» , прямо указывающие на первоисточник и формирующие рецептивное взаимодействие автора и читателя в контексте смысловых и жанровых ожиданий. Выявляя основные причины обращения к образу «памятник нерукотворный» в современном литературном процессе, мы стремились глубже понять взаимодействие между текстом и его интертекстуальным использованием в условиях быстро меняющегося культурного и социального контекста. Переосмысление пушкинских образов поэтами начала XXI в. поднимает актуальные вопросы, продолжая культурный диалог о роли творца и его наследия, о свободе, ответственности, памяти, преодолении смерти в современной культуре.
Литература начала XXI в. активно переосмысляет и реконструирует образ А. С. Пушкина как национального поэта, культурного символа и мифотворца. По мнению Л. В. Зубовой, «Пушкин стал эмблемой всего чего угодно - в нем видят атеиста и православного, диссидента и державника, моралиста и эротомана, последователя и разрушителя традиций» [5]. Классик становится и объектом восхищения, и образцом для подражания, и предметом критики, иронии, пародии в контексте реалий современности. Пушкинский миф представляет собой сложный и многогранный феномен, включающий в семантическое поле современной культуры не только личность А. С. Пушкина, его биографию и творчество, но и результаты влияния на последую- щие поколения авторов, а также культурные и социокультурные смыслы, которыми наделяется поэт в наше время. В контексте современности А. С. Пушкин выступает символом не только русского литературного наследия, но и более широких культурных и социальных изменений, маркером реакции на вызовы времени, связанные с культурной памятью и национальной идентичностью.
Пушкинский миф в современной литературе становится динамичным пространством для исследований, открывающим новые перспективы в понимании творчества гения и его места в культуре.
Хотя метафора поэтического памятника из оды Горация впервые закрепилась в русской литературе благодаря М. В. Ломоносову и Г. Р. Державину, своей необычайной популярностью в России, не имеющей аналогов в литературных традициях других стран, она обязана стихотворению А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» [10]. Именно этот вариант интерпретации оригинала стал наиболее популярным прецедентным текстом для русской культуры. Пушкинский образ памятника, а также связанные с ним мотивы «вечности, вневременности пребывания, уникальности», «на протяжении веков по-своему преломляются через мирообраз поэта в контексте художественных парадигм разных литературных эпох» [4, с. 3].
В художественных произведениях XX в. довольно часто встречается образ «рукотворного» памятника, символизирующего присутствие поэта в современности и служащего визуальным выражением памяти о нем. Так, в стихотворении В. В. Маяковского «Юбилейное» бронзовый Пушкин воспринимается как современник, неотъемлемая часть жизни: «На Тверском бульваре / очень к вам привык-ли.//Ну, / давайте, / подсажу / на пьедестал» [7, с. 223]. По мнению Е. О. Айзенштейн, «и у Кушнера, и у Маяковского звучит мотив от-толкновения от славы: Маяковский готов воспользоваться динамитом, чтобы избавиться от нее, а Кушнер считает, что памятники “устали” от славы, они если и жаждут общения, то скорее с городом, чем с людьми» [1, с. 187].
В стихотворении современного поэта Олега Левитана «Мойка, 12» Пушкин сердито
ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ
PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION
смотрит из окна на свой рукотворный памятник во дворе, у которого выступают современные «господа стихотворцы».
Н-да, ‒ говорит Александр Сергеевич, на что-то сердит. Трубку раскуривает, на тираж “Современника” смотрит ‒ давненько вышел…
Арапчонка погладит чернильного, в окно опять поглядит:
‒ Левитан? Комаров? Нет, не слышал
[11, с. 19].
Образ памятника в стихотворении не визуализирован, и художественно-философский потенциал «экфрастической встречи» (Дж. Бр. Платт, см.: [8]) не реализован, но скрытое противопоставление бронзовой холодной статуарности, которая канонизирует и мумифицирует кумира, подменяя этим живую личность поэта, обретает дополнительные смыслы, реализующиеся на разных уровнях текста. С одной стороны, это демонстрация отношения героя стихотворения - Пушкина -к современной поэзии и своему месту в ней, с другой - ироничное восприятие автором текста собственного творчества.
К истории создания стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» А. С. Пушкина обращается Екатерина Кульбуш, реконструируя процесс написания знаменитого произведения и воссоздавая живое бытие поэта через внутреннюю речь героя и его диалоги с близкими.
Я памятник себе воздвиг… Ну что,
Никита?
Забыл, за чем пришел? Ну ладно, не мешай.
Прикрой-ка лучше дверь, а то окно открыто.
Простуду схватим - и прощай.
Я сам себе воздвиг… А это ты, Наташа?
Нет, не поеду, нынче мне не до балов.
Тебе идет бордо. Ну, что ты, просто кашель.
Оставь, мой ангел, я здоров
[11, с. 27–28].
Сквозной повтор разговорной формы устанавливает связь между тем высшим миром, где поэт творит, и пространством обыденной жизни, где его видят домашние. Поэт
«внимает шуму повседневности», что предотвращает его обожествление как гения.
Через образы стихотворения А. С. Пушкина современные поэты, транслируя свое отношение к русской культуре, личности поэта, его творческому наследию, примеряют на себя его судьбу.
В стихотворении Марины Марьян «У Памятника» бренность и конечность существования искупается живой связью с поэзией А. С. Пушкина, которая чудесным образом все преображает, дает земному существованию смысл и ориентир.
Еще не время подводить итог,
Еще люблю и верю простодушно.
Но как же был он прав и… одинок, Хвалу и клевету приемля равнодушно [11, с. 24].
Михаил Александр с горечью констатирует бесполезность творческих интенций в современном мире, антонимически переосмысляя смысловые коннотации пушкинского стихотворения: «Слух обо мне пройдет - бесследно, невозвратно, / забудут слухачи, что был такой поэт» [11, с. 27]. Героя не прельщает ни «мраморный портрет» «в обшарпанном парадном» , ни бронзовый памятник: «Я памятник себе ‒ сомнительная прелесть / стоять среди толпы, на радость голубям…» [11, с. 27]. Постоянные изменения, нестабильность, промежуточность, сомнения все же не уничтожают стремления героя выйти за пределы привычного, преодолеть границы, созданные обществом, найти собственную творческую идентичность и оставить след в истории:
И долго буду тем ‒ и долго буду этим, и, вдруг преодолев чужие рубежи, я слово проведу дымящимся столетьем, мостом над пропастью во лжи
[11, с. 27].
В стихотворении формируется образ поэта-искателя, который, несмотря на преграды, пытается достичь более глубокого понимания сущности своей и окружающего мира, стремится к истине, разоблачению фальши. Слово, как и у А.С. Пушкина, воплощая мысли и идеи автора, становится инструментом изменения реальности и проводником в бессмертие искусства, средством коммуникации и преобразования.
Игорь Волгин оценивает опыт своего долголетия, иронично переосмысляя мотивы прецедентного текста: «Я прожил две пушкинских жизни, / но так и не нажил ума…» [11, с. 78]. Размышляя далее, поэт резюмирует: «И, значит, народу любезен / навряд ли я буду такой» [11, с. 79].
Дмитрий Псурцев уходит в пародию, примеряя на себя роль поэта: «Я снеговик себе воздвиг чудесный вечный, / Главой вознесся он превыше потолка» [11, с. 78]. Аллюзия, связанная со снегом, в контексте использования образа памятника - весьма популярный мотив пушкинианы, в частности, объясняемый поэтизацией зимы в стихотворениях классика, временем его гибели, а в общем - традицией русской литературы. Можно отметить «ночное» и «метельное» стихотворение «Памятник Пушкину» И. А. Бродского, в котором проявляется мотив ледяной вечности и ночного одиночества. С другой стороны, у Б. Ш. Окуджавы снег согревает поэта (см. об этом: [2, с. 169–170]).
Пародийное осмысление служит важным инструментом деканонизации литературной традиции, подчеркивая ее значимость для современной культуры. Таким образом, каноническое и травестийное начала продолжают существовать в диалоге друг с другом, создавая пространство для новых интерпретаций.
За счет полисемии значение образов прецедентного стихотворения может меняться, мутировать, переходить в другие смысловые пространства, при этом усиливая заложенные в прецедентном тексте коннотации, как, например, в тексте Екатерины Кульбуш: «И я воздвиг… я воз… я воз везу тяжелый» [11, с. 28]. Сюжетно, как мы указывали ранее, произведение реконструирует процесс написания стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», картинку из жизни поэта, и этот процесс семантически сближается с душевной натруженностью, наделяя вещественное одухотворенностью.
Пафос стихотворения Евгения Эрастова полемичен по отношению к прецедентному тексту. Поэт отталкивается от пушкинского мотива «незарастающая тропа» , который становится поводом для авторских ассоциаций, рассуждений о современности, о бедном народе, о «родине в дыму» :
Я споткнулся на пятой стопе, Прочитав о народной тропе, – Пробежали мурашки по коже.
Зарифмованный бедный народ
Все на те же приманки клюет ‒ Корку хлеба да лживую фразу
[11, с. 21].
Стихотворению присущи эмоциональная напряженность, глубокий внутренний отклик, озабоченность по поводу состояния общества, для которого самым значимым в жизни становятся « корка хлеба да лживая фраза », заменяющие истинные ценности. Слово обращено против народа, оставаясь лишь « зарифмованным », то есть поверхностным, теряя в смысле и благородной цели. В современном мире поэт не ведет за собой людей ( «Мы ‒ как птицы. Поем никому. / Ну а родина тонет в дыму ‒/ От Архангельска и до Кавказа» [11, с. 21]), а поколение, обремененное опытом исторических трагедий, пессимистично и не способно следовать высоким примерам. Автор видит выход в обращении к религиозным основам: «Много видел я троп и дорог, / Но высокий Небесный Чертог / Был назойливой славы дороже» [11, с. 21], к природной естественности и красоте: «Разве шелест несмятой травы / Чем-то хуже прочитанной книжки?» [11, с. 21].
Нивелированный образ поэта в восприятии человека современности создается и в стихотворении Майи Шварцман. За счет добавления к традиционному мотиву «незарастающая тропа» сниженного эпитета «натоптанная» , неуместности высокой лексики создается «чувство недовеса» , то есть пустоты, симулятивности высокого когда-то смысла:
и по незарастающей тропе, натоптанной, пройдись, оторопев от новизны, от чувства недовеса в привычной ноше выспренной тоски
[11, с. 73].
Мотив «незарастающей тропы» в стихотворениях современных авторов при обращении к творчеству известных поэтов обретает философский смысл, как, например, в тексте Александра Габриэля « Александр и Иосиф», посвященном А. С. Пушкину и И.А. Бродскому: «От стены до стены по извечной бродя
ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ
тропе, / все пределы свои отмерь самому себе» [11, с. 72]. Стихотворение содержит глубокие экзистенциальные размышления о существовании человека в условиях внешних границ (которые могут быть социальными, культурными или даже физическими), о своем месте в этом ограниченном пространстве, о внутренних поисках себя и смысла жизни.
Подытожим проделанный анализ реминисценций, отразивших рецепцию итогового высказывания А. С. Пушкина о поэте и поэзии. Сквозь призму современного восприятия в стихотворном завещании гения высвечивается неоднозначное отношение собратьев по перу к образу «памятник нерукотворный» и мотиву «незарастающая тропа». Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» не утратило значимость эталона, аккумулирующего духовные ценности и транслирующего их молодому поколению. Но обращение поэтов XXI в. к образам и мотивам рассмотренного прецедентного текста имеет разные причины и цели: от попытки «дорасти» до идеала, измерить им собственную творческую значимость до полемического переосмысления в контексте коллизий дня сегод- няшнего. Поэты не ставят под сомнение гармонизирующее влияние гения на современную жизнь.
Научная новизна исследования заключается в сопоставлении современных трактовок образа памятника со смыслами, заложенными в прецедентном тексте, выявлении общего культурного контекста и индивидуальных авторских подходов, что показало изменения в интерпретации проблем творчества, преодоления смерти, роли классического наследия в современном литературном (шире - социокультурном) дискурсе, меняющем субъективное восприятие времени и культурной памяти как таковой.
В дальнейшем изучение темы можно расширить за счет рассмотрения других образно-мотивных аспектов творчества и биографии А. С. Пушкина в современном поэтическом пространстве. Рецепция пушкинского наследия в рамках стихийно формирующейся массовой поэзии представляет значительный научный интерес для исследований в области массовой литературы, рассматриваемой сквозь призму социокультурных трансформаций начала XXI в.
PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION
Marina V. SHAROIKO