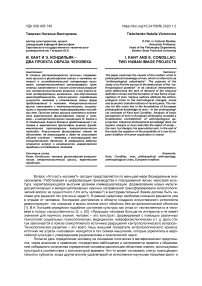И. Кант и Э. Кондильяк - два проекта образа человека
Автор: Тищенко Наталья Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются причины современного кризиса в философском знании о человеке, который в исследовательской литературе называют «антропологической катастрофой». Цель статьи заключается в поиске источника разрушения «антропологического вопроса» в его классической интерпретации, выявлении, чем обусловлена невостребованность классического определения сущности человека и становления новых форм представлений о человеке. Антропологический кризис связывают с технологическими, социальными и экономическими трансформациями последних лет. Причина этого кризиса заложена в основаниях европейского философского знания о человеке - в антропологических концепциях И. Канта и Э. Кондильяка. Анализ базовых представлений о человеке в европейской философии выявил фундаментальное противоречие антропологических подходов. Классическое философское знание не объясняет, не анализирует и даже не описывает объект изучения - человека, а конструирует его спекулятивного двойника. В завершение работы ставится вопрос о возможности неевропейской традиции исследования человека.
Кант, кондильяк, человек, философская антропология, антропологический кризис, европейская традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149134077
IDR: 149134077 | УДК: 008:005.745 | DOI: 10.24158/fik.2020.1.2
Текст научной статьи И. Кант и Э. Кондильяк - два проекта образа человека
Вопрос «Что есть человек?» сегодня представляется по меньшей мере безнадежным анахронизмом. Роботизация и цифровизация производства и повседневной жизни, массовая культура, характеризующаяся высоким уровнем коммерциализации, формирование новых мульти-дисциплинарных и междисциплинарных научных направлений трансформировали антропологический вопрос из сущностного (Что есть человек?) в инструментальный (Каким должен быть человек для решения тех или иных задач?). В рамках нейронаук проблема сознания решается уже в отрыве от человека. Последние достижения в области создания искусственного интеллекта демонстрируют, что сознание и мысль вполне могут обойтись без антропологической оболочки [1]. В.А. Кутырёв определил подобное состояние культуры как отказ от «естественного» в человеке в пользу «искусственного» [2, с. 62]. «Природа» человека больше не интересна и не имеет значения для научного знания, человек – это конструкт, формируемый с помощью различных технологий: социальных, психологических, медицинских, нейрофизиологических и т. д. Цель статьи заключается в поиске спекулятивного источника разрушения «антропологического вопроса». Технологическое развитие – это всего лишь внешний показатель антропологического кризиса, источник же утраты «человека» находится в тех схемах мышления, которые укрепились в европейской культуре с утверждением рационализма и классической науки.
Попытки дать определение человеку на основании логических и метафизических предпосылок, через аналогию и сравнение, посредством наблюдения и эксперимента привели к образованию небывалого количества определений человека различными областями знания, используемых культурой в соответствии с конъюнктурой времени. Кто-то может отстаивать статус трансцендентального субъекта, когда другие вполне удовлетворятся естественно-научными теориями фило- и онтогенеза человека. Для кого-то единственно возможным способом вести речь о человеке является принцип различия, но ему в ответ обязательно подадут голос те, кто постулируют уничтожение всяких изменений, различений и пророчат ужас онтологического однообразия современности. Философская антропология с немыслимой скоростью размножала свои концепты начиная с XVIII столетия. Эта множественность понятий в конце концов привела к утрате философской антропологией четких дисциплинарных границ и позволила иным научным дисциплинам взять на себя право высказываться о человеке, забывая о необходимой редкости события высказывания, организующего дискурсивное поле [3, с. 82]. Подобная ситуация свидетельствует о трансформации предмета исследования, методов и принципов этой области философского знания [4].
Но интерес исследования направлен не на выявление путей развития философской антропологии, а на определение истоков столь неоднозначного отношения к человеку. Почему разговор о нем обычно упорядочивался некими абстрактными сущностями: божественностью, предопределением, свободой, волей; или же дихотомичными сегментами самого человека: душа – тело, разум – чувства? Отчего философская антропология предпочла бродить между эрзацев и подобий вместо предметного изучения человека? А может быть, сама возможность философского знания о человеке определена наличием его «заменителей» и вся спецификация философской антропологии вытекает из редупликации предмета ее исследования?
Поиск ответов на поставленные вопросы неизбежно приводит к двум авторам, чье философское наследие уже не раз подвергалось теоретической ревизии, – Иммануилу Канту и Этьенну Бонно де Кондильяку. Провозглашенная проблема указывает, что ее исток находится в начале векторного движения знания, заданного с разных позиций французским и немецким просветителями.
С одной стороны, Кант, сделав время формой внутреннего, а пространство – формой внешнего, очертил территорию, охватившую все без исключения образы человека. С другой стороны, Кондильяк, рассмотрев на известном примере со статуей привычку как основу остальных психических феноменов, задал верхнюю планку конструирования образов человека, чье преодоление повлекло бы за собой крах и разрушение всего блока антропологических представлений.
Кант создает внутри человека площадку, полигон, плацдарм, на котором размещаются образы, удачно замещающие человека посредством вменения ему пассивности. Человек – это оболочка, в чьей сердцевине располагается масса неожиданных находок. В случае с Кантом под оболочкой скрывается трансцендентальный субъект, занятый переводом трансцендентного на уровень имманентного («в сферу возможного опыта»). В связи с этим совсем по-другому воспринимается заявление Канта о том, что три главных вопроса философии (Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться?) сводятся к вопросу «Что есть человек?»: «В сущности все это можно было бы свести к антропологии, ибо три первых вопроса относятся к последнему» [7, с. 332]. Речь идет о теоретическом подлоге, когда вопрос о человеке заменяется вопросами о логических формах и практических навыках.
Влияние открытия Канта велико, и его отголоски звучат не только у его прямых наследников, но и у достаточно далеких ему авторов. Например, каков человек экзистенциалистов? Посторонний, чужак, гонимый отовсюду осознанием своей внутренней пассивности. Поэтому бунт, «тошнота», гротеск, абсурдность – все это реакция на пассивное состояние, попытка избавиться от него (исторгнуть из себя в физиологическом смысле все то, что осталось от категорического императива Канта), но попытка, обреченная на провал. Ж. Бодрийяр формулирует проблему еще более беспощадно: человек – это часть системы вещей, и классификация человека связана с релевантностью того или иного типа человека определенной функции вещи [8, с. 93].
Противоположным пределом европейской традиции философской антропологии является кондильяковская статуя – не менее парадоксальный концепт, чем кантианское определение человека. На первый взгляд «Трактат об ощущениях» Кондильяка, где перед читателем предстает знаменитый образ статуи, никак не связан с антропологической проблематикой. Кондильяк с крайне сенсуалистических позиций задается целью исследовать познавательные способности и за отправную точку действия психических феноменов берет «привычку»: статуя способна к элементарнейшему акту восприятия через обоняние благодаря загодя имеющейся у нее привычке [9, с. 79]. Примечательно принципиальное отсутствие у Кондильяка объяснения происхождения этой привычки, тогда как влияние социума на этом этапе не рассматривается. Привычка в трактовке Кондильяка выступает универсальным принципом в объяснении человеческих способностей. Эта априорная «привычка» запускает механизм формирования знаний, которые приобретаются статуей/человеком при помощи чувств, а развитие чувств в свою очередь определяется «опытом, упражнениями, воспитанием» [10, с. 128].
В итоге вменение и властное распоряжение быть неким «я» – вот судьба кондильяковской статуи, а следовательно, и человека. Ему вменяется здоровая доля эгоцентризма, он обязан представлять из себя целостное «я», личность, гражданина, патриота, законопослушного члена общества. Вглядываясь в этот экзистенциальный разлом, обнаруживаем, что права и свободы приобретают статус неотчужденности в процессе властной рекомендации быть человеку неким «я», в ходе лишения его права этим пресловутым «я» и не быть. После подобного вывода дискредитируются все гуманистические идеи в сфере права, политики, экономики и т. д., призванные обеспечить достойное существование человека, тогда как в их основание заложено непреодолимое противоречие: освобождение индивида проходит в ситуации нивелирования возможности отказаться «быть» конкретным индивидом. И эта жесткая регламентация «быть человеком» базируется на наличии априорной привычки обоняния. Поэтому философ-материалист, пытавшийся опровергнуть всякий намек на «врожденные идеи» и говорить о человеке только исходя из имеющихся данностей, а не абстрактных понятий, отправной точкой концепции делает метафизическое допущение наличие «привычки обоняния» для человека. Кроме того, Кондильяк не ставит под сомнение вопрос о характере знаний, которые формируются, исходя из привычки ощущать. В литературной форме П. Зюскинд на примере главного героя, чьи знания опирались исключительно на обоняние, показал, что нет никакой предопределенности в полученных от осязания знаниях и один и тот же запах может вызывать как положительные эмоции, а следовательно, и положительные поступки, так и страдание и порожденное им преступление.
Проанализировав только две точки зрения на человека, мы столкнулись с кардинальным противоречием антропологических подходов. Нет ничего удивительного в том, что положения современной философской антропологии, верные своим «основателям», не объясняют, не описывают, а редуплицируют, причем не объект изучения, а его фантом. Многообразие эффектов человека, их обратимость, допустимая погрешность, преломление и прочее позволяют антропологии высказываться по самым различным поводам – от социальных до онтологических вопросов, – при этом ювелирно игнорируется, казалось бы, главный антропологический вопрос: «Что такое человек?». Человек не просто разорван на массу эффектов «свечения человеческого», он разобран на составляющие части, и каждая из них вмонтирована в определенную структуру знания. Кутырёв точно подобрал метафору для определения нынешнего состояния человека: сегодня мы имеем дело со «слабым раствором человека» [11, с. 42]. Дионисийское тело было разодрано в клочья невежественными и злобными титанами, а человек был расподоблен многочисленностью «знаний о человеке». Философская антропология не смогла противостоять тенденциям расподобления человека. С одной стороны, можно, сославшись на М. Фуко, констатировать закат антропологической мысли вместе с исчезновением самого объекта исследования – человека [12, с. 403]. С другой стороны, Фуко пишет о европейском проекте конструирования человека, и этот проект действительно движется к своему завершению. А возможно ли знание о человеке вне европейской традиции? Этот вопрос пока остается открытым.
Ссылки:
Список литературы И. Кант и Э. Кондильяк - два проекта образа человека
- Пройдаков Э.М. Современное состояние исследований в области искусственного интеллекта // Цифровая экономика. 2018. № 3 (3). С. 50-63. DOI: 10.31249/scis/2018.00.09
- Кутырёв В.А. Могущественный раб техноса… // Человек. 2006. № 4. С. 47-62
- Фуко М. Археология знания: пер. с фр. Киев, 1996. 208 с
- Хоружий С.С. Человек и его три дальних удела. Новая антропология на базе древнего опыта // Вопросы философии. 2003. № 1. С. 38-62
- Кант И. Вопрос о том, стареет ли земля с физической точки зрения // Сочинения: в 6 т. Т. 1 / пер. Б.А. Фохта. М., 1963. С. 93-114
- Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия?: пер. с фр. М., 2009. 261 с
- Кант И. Логика. Пособие к лекциям // Кант И. Трактаты и письма: пер. с нем. М., 1980. С. 319-444
- Бодрийяр Ж. Система вещей: пер. с фр. М., 2001. 224 с
- Кондильяк Э. Трактат об ощущениях: пер. с фр. М., 1935. 288 с
- Кондильяк Э. Трактат об ощущениях: пер. с фр. М., 1935. С. 128.
- Кутырёв В.А. Разум против человека (Философия выживания в эпоху постмодернизма). М., 1999. 227 с
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук: пер. с фр. СПб., 1994. 408 с