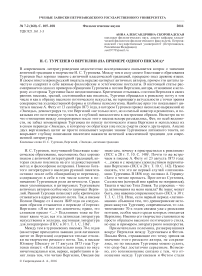И. С. Тургенев о Вергилии (на примере одного письма)
Автор: Скоропадская Анна Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (160) т.2, 2016 года.
Бесплатный доступ
В современном литературоведении недостаточно исследованным оказывается вопрос о значении античной традиции в творчестве И. С. Тургенева. Между тем в силу своего блестящего образования Тургенев был хорошо знаком с античной классической традицией, прекрасно знал древние языки. В своем эпистолярии русский писатель нередко цитирует античных авторов, причем эти цитаты зачастую содержат в себе важные философские и эстетические постулаты. В настоящей статье рассматривается один из примеров обращения Тургенева к поэзии Вергилия, автора, отношение к которому со стороны Тургенева было неоднозначным. Критически отзываясь о поэзии Вергилия в своих ранних письмах, зрелый, состоявшийся как писатель, Тургенев обращался к римскому поэту в том числе и как к образцу высокого поэтического искусства, не теряющего актуальности с точки зрения совершенства художественной формы и глубины психологизма. Наиболее ярко это показывают цитаты в письме А. Фету от 13 сентября 1873 года, в котором Тургенев привел несколько выражений из «Энеиды», демонстрируя то, что Вергилий «не только поэт, но и смелый новатор и романтик», и показывая его поэтическую чуткость и глубокий психологизм в построении образов. Несмотря на то что отношения между литераторами после этого письма вскоре разладились, Фет, по всей видимости, не забыл комментариев Тургенева по поводу поэтического языка Вергилия и использовал их в своем переводе «Энеиды», к которому он обратился уже после смерти своего друга-врага. Анализ двух вергилиевых цитат не просто показывает хорошее знание Тургеневым латинского текста, но вскрывает глубину понимания писателем важности античной классической традиции для современной литературы.
И. с. тургенев, вергилий, "энеида", античная традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14751097
IDR: 14751097 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи И. С. Тургенев о Вергилии (на примере одного письма)
И. С. Тургенев, получивший блестящее классическое образование, несомненно, был хорошо знаком с античной литературной традицией, которая сильно повлияла на его художественный метод и философские воззрения. Помимо богатого литературного наследия русский писатель оставил после себя обширнейшую переписку, содержащую в себе в том числе ключи к пониманию Тургеневым роли античности. Среди имен упоминаемых и цитируемых Тургеневым античных авторов особое место занимает Вергилий. Ранний Тургенев позволяет себе критически отзываться в адрес римского поэта. Так, в письме Полине Виардо от 4 июля 1849 года он следующим образом отзывается о переводе «Георгик» Вергилия: «Я не мог его докончить; право, это слишком пресно <…> Подлинник тоже не бог знает какое чудо; вся эта латинская литература искусственна и холодна, настоящая литература для литераторов» (ПСС в 30 т. Т. 1. С. 316)1.
Между тем в тургеневских письмах 70-х годов (на которые приходится львиная доля латинских цитат из Вергилия) содержатся теплые отклики на творчество римского поэта. Так, в письме Юлиану Шмидту от 17 августа 1873 года Тургенев пишет: «Я положительно вошел во вкус ничегонеделанья или, вернее, неработания и занят лишь тем, что читаю Вергилия, Овидия (не знаю сам, почему я пристрастился к римлянам» (ПСС в 28 т. Т. 10. С. 140)2. Почти то же встречаем в письме А. Фету от 23 августа 1873 года: «…снова и с немалым удовольствием перечитываю Вергилия» (ПСС в 28 т. T. 10. C. 142). Нужно сказать, что это не первый случай «латиномании» Тургенева. В 1856 году он писал А. Герцену: «Зато я читаю пропасть. Проглотил Суетония, Саллюстия (который мне крайне не понравился), Тацита и частью Тита Ливия. Ты спросишь – что за латиномания на меня напала? Не знаю; может быть, она навеяна современностью» (ПСС в 30 т. Т. 3. C. 151). Итак, если первый период «латиномании» объясним тем, что древнеримские историки кажутся Тургеневу современными, то «латиномания» 70-х годов связана уже с римскими поэтами, особое место среди которых отводится Вергилию. Именно его творчество становится не просто образцом высокого поэтического стиля, но еще и примером литературного новаторства.
Примечательна полемика, развернувшаяся вокруг Вергилия между Тургеневым и Фетом. Письма Фета, отражающие его точку зрения на значение этого римского автора, не сохранились, но по письмам Тургенева можно судить, что спор был достаточно серьезным. Возможно, его возникновение связано с тем, что отношения между Тургеневым и Фетом стали натянутыми на почве творческих и идеологических разногласий. Спор этот, по всей вероятности, затронул и вопрос о ценности поэзии Вергилия. 13 сентября 1873 года Тургенев пишет следующее: «Вы напрасно так строго отзываетесь о Вергилии. Постройка, характеры и пр. его “Энеиды” не имеют значения; но в отдельных выраженьях, в эпитетах, в колорите он не только поэт – но смелый новатор и романтик. Напомню Вам “per amica silentia lunae” (хоть бы Тютчеву) – или “futura jam pallida morte” (о Дидоне, когда она с яростью восходит на свой костер, чтобы покончить с собою) и т. п.» (ПСС в 28 т. T. 10. C. 152). Замечания Тургенева о Вергилии отражают в том числе и те противоречивые оценки, которые получал античный поэт в XIX веке. Характеризуя Вергилия как «смелого новатора» и «романтика», Тургенев во многом сам предлагал «новаторский» взгляд на древнего поэта, которого многие считали певцом Августа, сочинителем панегириков имперской власти, подражателем Гомера. И только просвещенный читатель мог увидеть за содержанием и сюжетными линиями поэмы ее свежесть и новизну в плане языка, слога, поэтики, психологизма. В ХХ веке М. Гаспаров так охарактеризовал новаторство «Энеиды»: «Эпическое любование минувшим должно было замениться драматической заинтересованностью в предстоящем, обилие подробностей – обдуманным отбором, величавая плавность – патетической напряженностью. Все это Вергилий сделал: мотивы, из которых соткана его поэма, – гомеровские, но ткань, в которую они сплетаются, – новая» [1: 30].
В очередной раз античная литература являет свою современность и актуальность для Тургенева: обращение к поэзии Вергилия для русского писателя становится одним из доказательств приобщенности Тютчева (оценка творчества которого стала основным предметом спора между Тургеневым и Фетом в приводимых нами письмах, об этом подробнее см. [2: 454–508]) к западноевропейской культуре. При этом он обращается к Фету не только как к литератору и поэту, но и как к талантливому переводчику античных авторов, который не просто знает, но и чувствует античную литературу. Именно поэтому цитаты из «Энеиды» Тургенев дает без перевода, сопровождая их краткими отступлениями, призванными объяснить направление своей мысли. Первая цитата «per amica silentia lunae» ( при дружественном безмолвии луны ) – 255 стих ΙΙ песни, рассказывающей о захвате Трои греками, – стала не только возможным источником стихотворения Тютчева «Silentium!» (о чем намекает Тургенев). Ее образная афористичность была использована в последующей европейской литературе: это латинское выражение стало, например, заглавием стихотворения П. Верлена (1889 год) и прозаической книги ирландского поэта-символиста У. Йейтса (1917 год).
Вторая приводимая цитата – 640 стих из IV книги «Энеиды», повествующей о любви Дидоны и Энея, самой страстной и яркой части поэмы. По словам С. В. Шервинского, «для описания страсти Дидоны у Вергилия оказались в избытке и сила воображения, и психологическая наблюдательность» [6: 18]. Тургенев, тонкий художник в изображении чувств, не мог не оценить того мастерства, с которым Вергилий описывал душевные состояния своих героев, в нескольких деталях, штрихах давая целую психологическую картину. Примером такой манеры служит как раз приводимая строка, в нескольких словах рисующая душевное состояние Дидоны, намеревающейся умереть. В цитирование латинского стиха у Тургенева снова закралась неточность: в оригинале – «et pallida morte futura» ( и бледна от смерти предстоящей ). Уже отмеченная нами в других цитатах перестановка подтверждает то, что латинская фраза была в активном использовании у Тургенева, о чем может свидетельствовать и ритм тургеневского латинского варианта, полностью соответствующий латинскому гекзаметру, которым написана «Энеида». Примечателен комментарий, который в скобках дается вслед за цитатой: «(о Дидоне, когда она с яростью восходит на свой костер, чтобы покончить с собою)». Тургенев выделяет слово, антоними-чески подчеркивающее указанную в латинском тексте бледность Дидоны. Выделение можно было бы объяснить тем, что это цитирование русского текста. Однако, скорее всего, Тургенев читал «Энеиду» в оригинале, так как в 1873 году еще не был создан признанный (как переводы «Илиады» и «Одиссеи» Гомера Н. И. Гнедичем и В. А. Жуковским) полный перевод поэмы3. Следовательно, он мог выделить свой вариант перевода на русский язык. Приведем контекст:
at trepida et coeptis immanibus effera Dido, sanguineam volvens aciem, maculisque trementis interfusa genas, et pallida morte futura , interiora domus inrumpit limina, et altos conscendit furibunda rogos… (IV, 642–646)4.
Подстрочный перевод: Трепещущая и начинаниями чудовищными обезумевшая Дидона, / налитыми кровью вращая глазами, пятнами на дрожащих / растекшаяся щеках, и бледная пред будущей смертью, / во внутреннюю дома врывается дверь и на высокий / восходит неистовая костер…
Скорее всего, «с яростью» Тургенев перевел определение furibunda, которое, согласно словарю И. Х. Дворецкого, имеет значения: «1) бешеный, неистовый (homo, impetus C; taurus O); 2) восторженный, исполненный дикого восторга, экстатический (praedictio C)»5. Например, Цицерон использует это определение для описания духа прорицателя: mens furibunda (Cic. De div. I, 114) – неистовый, восторженный. В современной психиатрической терминологии данное определение применяется для обозначения состояния mania furibunda «резко выраженного психомоторного возбуждения со злобностью или яростью, склонностью к агрессивным и разрушительным дей-ствиям»6. Интерпретируя эту сцену, А. Ф. Лосев замечает следующее: «Самоубийство Дидоны изображено в мрачных, сильных и безумно экстатических тонах: трепещущая (“trepida”, 642), она “обращает кровавый взор, покрытая пятнами на дрожащих щеках и бледная от предстоящей смерти” (“sanguineam volvens aciem maculisque trementis interfusa genas et pallida morte futura”, 643–644); “буйная” (“furibunda”, 646), она изнемогает от безумной страсти (650–662); последние же ее слова полны горечи и отчаяния» [4: 112]. Как видно, прилагательное furibunda А. Лосев переводит как «буйная», вслед за составителями латинско-русских словарей указывая на неистовство Дидоны, ее болезненное возбуждение, не поддающееся самоконтролю.
Заменив определение (furibunda) обстоятельством («с яростью»), Тургенев больший акцент делает на образе действия, сопоставляя «бледную» Дидону с тем, как она яростно восходит на костер7. Ярость – чувство, несущее в себе не только отрицательную (гнев), но и отчасти положительную (наивысшая степень качества, интенсивность) коннотацию. В отличие от бешенства и буйства, оно не имеет явного указания на болезнь. Кроме того, этимологически слово «ярость» восходит к праслав. *jarъ, от которого в числе прочего в славянских языках произошли слова со значением «сиять», «греть», «жар»8. Подобное, в определенной степени антонимическое, сочетание бледности и ярости наиболее точно соответствует «тайному психологизму» – художественному методу Тургенева, по утверждению которого «писатель должен быть психологом, но тайным» (ПСС в 30 т. T. 1. C. 135). Примечателен следующий факт: уже после смерти Тургенева, обратившись к переводу «Энеиды», Фет, скорее всего, не забыл тех комментариев, которые его друг-враг давал в письме. Фетовский перевод сцены самоубийства Дидоны выглядит так:
Но трепеща и от дум одичав ужасных, Дидона, Взором кровавым кружа и на дрожащих ланитах В пятнах вся, и бледна уже предстоящею смертью, В сокровенный покой ворвалась и в ярости страшной На костер поднялась…9
Как видим, Фет сохранил тот перевод прилагательного furibunda, который предложил Тургенев, тогда как ни до10, ни после11 переводчики «Энеиды» подобного варианта не применяли.
Н. Добролюбов так оценил образ вергилиевой Дидоны: «В создании этой женщины Вергилий далеко опередил свой век: здесь он как бы положил начало развившемуся впоследствии романтизму. По силе, живости чувства это лучший характер во всей поэме; она привлекает к себе своею энергией и стремительностью, которые в поэме Вергилия выдаются ярче и обрисованы гораздо естественнее, нежели у всех его подражателей-трагиков, бравших Дидону за сюжет своих произведений» [3]. На наш взгляд, это суждение талантливого русского критика во многом совпадает с той оценкой, которую Тургенев в письме Фету дал творчеству Вергилия. Это сближение двух оппонентов (революционера-демократа Добролюбова и либерала Тургенева) требует отдельного исследования, но предварительно можно сказать, что их непримиримая полемика о современной им литературе теряет свою остроту, когда речь идет о классических, высокохудожественных произведениях античности.
* Работа выполнена в рамках реализации Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.
Въ страхѣ и въ страшномъ какомъ-то восторгѣ Дидона вбѣжала
На середину двора, гдѣ огромный костеръ возвышался:
Очи, налитыя кровью, быстро ходили повсюду;
Пята покрыли ланиты ея и предсмертная блѣдность.
Распространились дрожащих, бледна от будущей смерти, Перебегает пороги дома внутри, на высокий
Замысел страшный меж тем несчастную гонит Дидону:
Как видно, переводчик оставил за рамками своего перевода прилагательное furibunda.
Список литературы И. С. Тургенев о Вергилии (на примере одного письма)
- Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма в 18 т. М.: Наука, 1982 -по наст. время (с указанием тома и страницы)
- Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма в 13 т. М.: Наука, 1960-1968 (с указанием тома и страницы)
- P. Vergilii Maronis, Opera. Albertus Forbiger. II (Aeneidos I-VI) Lipsiae, 1852 . Режим доступа: https://archive.Org/stream/pvirgiliimaronis02virg2#page/n3/mode/2up (дата обращения 17.05.2016).
- Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М.: Рус. яз., 2000. С. 342.
- Большой энциклопедический словарь медицинских терминов/Под ред. Э. Г Улумбекова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. С. 937.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 4. М.: Прогресс, 1987. С. 562-563.
- Вергилий М. П. Энеида Вергилия: В 2 ч. Ч. 1. Кн. I-VI/Пер. А. Фета. СПб.: Изд-е А. Ф. Маркса, 1902. С. 151.
- Гаспаров М. Вергилий -поэт будущего//Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1979. С. 5-34.
- Генералова Н. П. И. С. Тургенев: Россия и Европа. Из истории русско-европейских литературных и общественных отношений. СПб.: РХГИ, 2003. 584 с.
- Добролюбов Н. О Вергилиевой «Энеиде» в русском переводе г. Шершеневича . Режим доступа: http://dugward.ru/library/zolot/dobrolubov_o_virgilievoy_eneide.html (дата обращения 17.05.2016).
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. T. V. Кн. 2. М.: Мысль, 2002. 538 с.
- Тронский И. М. История античной литературы. Л.: Учпедгиз, 1946. 496 с.
- Шервинский С. В. Вергилий и его произведения//Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971. С. 5-26.
- Вергилий. Энеида/Пер. С. Ошерова. М.: Лабиринт, 2001. С. 80