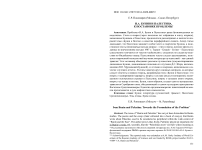И.А. Бунин и Палестина. К постановке проблемы
Автор: Пономарев Евгений Рудольфович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
Проблема «И.А. Бунин и Палестина» ранее буниноведением не выделялась. Стихи и очерки (через несколько лет собранные в книгу очерков), написанные Буниным о Палестине, предпочитали рассматривать в контексте широкой темы «Бунин и Восток» в качестве периферийного сюжета. Автор статьи доказывает, что Палестина занимает особое место в творчестве Бунина, а палестинские тексты (понимаемые весьма широко - стихи и проза, в разное время созданные по впечатлениям поездки 1907 г.: Турция - Греция - Египет - Палестина) существенно отличаются от текстов «цейлонских», созданных по следам путешествия по Индийскому океану. Палестинские тексты следует рассматривать, пользуясь современной методологией изучения литературы путешествий - как единый травелог. Этот метажанр объединяет реальное путешествие (документированное дневниками Бунина, дневниковыми записями его спутника Д.С. Шора, воспоминаниями В.Н. Муромцевой-Буниной), со стихами и очерками, написанными в качестве «путевого отчета». В статье намечен круг основных вопросов, на которые следует ответить в первую очередь, разрабатывая тему «Бунин и Палестина»: это вопрос о планировании маршрута, вопрос о составе цикла стихотворений, посвященного осмотренным странам и Палестине, вопрос о заглавии книги очерков, вопрос о ее жанре и поэтике. Бунин, таким образом, создает один из центральных травелогов Серебряного века, объединяющий в единое культурное пространство Восточное Средиземноморье. Единство средиземноморских цивилизаций во многом прочитывается в духе мифопоэтики символистов.
Бунин, литература путешествий, травелог, палестина, средиземноморье, тень птицы, храм солнца
Короткий адрес: https://sciup.org/149127261
IDR: 149127261 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00072
Текст научной статьи И.А. Бунин и Палестина. К постановке проблемы
Тема Палестины в творчестве Бунина ранее практически не выделялась: она включалась в широкую тему «Бунин и Восток». На первый взгляд, это вполне объяснимо: страницы, написанные Буниным о Палестине, по эмоциональному и тематическому строю весьма похожи на его тексты о Египте или Цейлоне. Весь этот тематический комплекс объединяет созерцание экзотических пейзажей и разрушенных древних городов (экзотизм - характерная черта всей европейской литературы о Востоке) и излюбленная бунинская идея - погружение в древность. Однако сфокусировавшись именно на палестинском локусе, мы вскоре обнаружим, что Палестина занимает особое место в этом погружении.
Прежде всего отметим, что Восток у Бунина отнюдь не един. Мифологическая древность по-разному локализована в средиземноморских и цейлонских (и связанных с движением по Индийскому океану) текстах. Маршрут бунинского путешествия 1907 г, по-видимому выстроенный в соответствии с тогдашними морскими путями (Одесса - Константинополь - Афины - Александрия - Яффа; таким же путем ехали спутники Бунина - музыкант Д.С. Шор и его отец Соломон, путешествовавшие именно в Палестину), объединяет Восточное Средиземноморье в единый локус древней антично-христианской цивилизации; иными словами, для Бунина это мир «нашей древности». Что касается путешествия на Цейлон (путевые записки «Воды многие» начинается в Порт-Саиде, следующая запись - «Суэцкий канал», затем - «Красное море», далее следует путешествие по Индийскому океану; интересно, что развертывание текста останавливается накануне прибытия на Цейлон) и целого ряда навеянных им рассказов, то здесь речь идет о древности иного рода - «не нашей», совершенно забытой или вовсе неведомой. Мифологический подтекст цейлонских впечатлений - буддийский, хотя «Воды многие» в начале и цитируют Библию (вид Синая напоминает о скрижалях Моисея) и Коран (размышления у арабских берегов). Мифологический подтекст средиземноморских впечатлений - египетский, античный и библейский, а также присоединенные к нему мусульманские сюжеты. Следовательно, Востока у Бунина как минимум два: средиземноморский и цейлонский. Культурологические, религиозные и мифологические мотивы, складывающиеся в восточные темы, существенно различаются в одном и другом географическом сюжете.
Тему «Бунин и Палестина» изначально следует разделить на два аспекта: путешествие 1907 г. и тексты, написанные по его следам (т.е. ряд стихотворений и книга очерков «Храм солнца / Тень птицы»), - и воспоминания о Палестине, которые, по-видимому, сопровождали Бунина всю жизнь и некоторым образом влияли на его творчество. Назовем эти аспекты «Впечатление от Палестины» и «Отблеск Палестины».
«Отблеск Палестины» обнаруживается как в дореволюционном, так и в эмигрантском творчестве Бунина, в целом ряде текстов, среди которых стихотворения (например, «У ворот Сиона, над Кедроном...», 1917), а также рассказы «Роза Иерихона» (1923-1924), «Пророк Осия» (1937), «Весной, в Иудее» (1946). В некоторых произведениях упоминаются детали, связанные с палестинским путешествием. Все это может быть сведено воедино и проанализировано как общий абрис Палестины, сохранявшийся в бунинском творчестве до последних лет.
Что же касается аспекта «Впечатление от Палестины», то все тексты, возникшие в процессе поездки и чуть позднее - в продолжение замысла (очерки книги «Храм солнца» создавались друг за другом в 1907-1909 гг, последний написан в 1911 г), удобно рассматривать как травелог, пользуясь тем теоретическим и методологическим аппаратом, который предоставляют нам современные исследования литературы путешествий [Пономарев 2013], [Пономарев 2020]. Неудачная альтернатива этому подходу представлена статьями разных авторов, где книга очерков понимается как паломничество - в связи со всей традицией паломнических хождений, начиная с игумена Даниила [Пронин 2001], [Ковалева 2015]. Книга Бунина использует паломнический нарратив, но не как основной. В ней соединяется целый ряд нарративных традиций. Кроме того, рассматривать книгу вне широкого контекста означает упустить целые пласты смыслов.
Методология анализа травелога предполагает метатекстовое восприятие путешествия: сама поездка, сведения о которой зафиксированы в письмах, документах, личных записях и дневниках, накладывается на ее литературную фиксацию (здесь удобно применить немецкую терминологию: «Reiseberichte», дословно: «отчеты о путешествии») и более позднюю ее рецепцию в воспоминаниях. Таким образом, путешествие 1907 г. и тексты о нем следует читать, с одной стороны, как единый метатекст, но также и по отдельности - как три параллельно развивающиеся линии: само путешествие, стихи о путешествии, прозаические очерки о путешествии.
Реальное путешествие писателя в Палестину (Бейрут и Баальбек будем считать Палестиной в широком смысле - нынешняя нарезка государственных границ в этом регионе совершенно не совпадает с положением дел в эпоху Серебряного века) неплохо документировано. Во-первых, некоторые сведения о поездке содержатся в письмах и открытках, отправленных Буниным из Константинополя, Пирея, Александрии, Порт-Саида, Иерусалима, Иерихона, Бейрута, Баальбека, Дамаска, Тиверии [Бунин 2007, 47-51], а также в дневнике 1907 г. [Бунин 1907]. Во-вторых, источником сведений о маршруте и подробностях путешествия становится книга очерков. В ней следует отметить несколько временных смещений: так, на горе Фавор Бунин побывал после Тивериадского озера (Галилейского моря), в тексте она упоминается значительно раньше - в финале очерка о Греции; Каир и пирамиды в тексте предшествуют Палестине, в то время как Бунин осматривал их на обратном пути; очерки об Иудейской пустыне и Мертвом море (писатель совершил эту двухдневную поездку из Иерусалима) идут после рассказа о плавании из Яффы в Бейрут, имевшем место позднее; о посещении Вифлеема говорится в двух разных очерках - первый раз в соответствии с ходом поездки, второй - в нарушении ее хода. Временные смещения, несовпадения реального путешествия с литературным - частый случай композиции травелога. Иногда они важны с идеологической точки зрения, здесь же речь идет лишь об удобстве в построении литературного материала. За исключением этих смещений книга точно и подробно передает маршрут и реалии поездки.
В-третьих, существуют краткие воспоминания спутника Бунина Д.С. Шора (в тот момент - известного пианиста, в дальнейшем - крупного деятеля сионистского движения). Воспоминания написаны в 1924 г, это рассказ о нескольких эпизодах путешествия. Общество Бунина, по мнению Шора, было далеко не из приятных (автор увидел в русском писателе «несомненный антисемитизм» [Шор 2001]) - тем не менее, почти месяц Шор не расставался с Буниным и впервые сопровождавшей его В.Н. Муромцевой. Вероятно, негативная оценка сложилась у Шора позднее. Наконец, есть подробные воспоминания В.Н. Муромцевой-Буниной, написанные в 1950-е гг, - это три очерка «Путь до Святой Земли», «В Палестине», «Сирия, Галилея, Египет» (и концовка очерка «Новая жизнь», рассказывающая об отъезде из Одессы).
Все эти документы позволяют весьма подробно реконструировать ход поездки, посмотрев на некоторые эпизоды с разных точек зрения. Сопоставление источников может дать интересные результаты. Вероятно, мы увидим черты традиционного паломничества (иудейского, христианского и слегка намеченного в имеющихся текстах мусульманского; Соломон Шор совершал именно паломничество), черты туристической поездки с усиленным интересом к экзотике (Бунин-путешественник ближе к этому типу), а также возможности ознакомления с новой жизнью переселенцев, первыми еврейскими коммунами (это была одна из целей путешествия Давида Шора). Интересно различие паломнических маршрутов разных конфессий (например, Бунин и Муромцева отправились в Хеврон, куда обычно не ездили православные путешественники, вместе с Шорами, для которых было важно поклониться могилам Авраама и Сарры). Кроме того, у нас достаточно материала для деконструкции художественного текста при помощи текстов бытовых - демонстрирующих реальное настроение путешественников (усталость, раздражение, человеческие слабости - например, Шор указывает на не слишком достойное поведение уставшего Бунина после вечернего посещения гробницы Рахили). Наложив бытовые эпизоды на мифопоэтический ореол и соединив логику нарратива с географическими значениями (как бытовыми, так и символическими), мы получим характерный для травелога метатекст.
Показательно, что мы не имеем полной ясности в вопросе, был ли у Бунина (и Муромцевой) изначальный план - или поездка складывалась спонтанно. Судя по воспоминаниям В.Н. Муромцевой-Буниной, с одной стороны, они собирались в длительное плавание, включавшее Святую землю и Египет; с другой - Бунин (под влиянием слов П.А. Пилуса) взял в Одессе пароходные билеты только до Константинополя, чтобы там решить, куда ехать дальше: «Зачем строить широкие планы? Доплывем до Константинополя, понравится - пойдем дальше, не понравится - сядем в экспресс и через двое суток в Вене» [Муромцева-Бунина 1989, 298]. Начиная с прибытия в Яффу, гидом для Бунина и Муромцевой выступает Д.С. Шор: он предлагает им маршруты поездок, включая морской переезд из Яффы в Бейрут. Этот переезд Бунины точно не планировали, он стал результатом рассказанного Муромцевой-Буниной «анекдота»: «<...> когда мы высадились в Яффе, то наши паспорта были отданы вместе с паспортами Шоров, а взамен их нам были вручены какие-то розовые билеты, которые, как оказалось, выдавались только евреям, не имевшим полной свободы передвижения. Узнав это и собираясь проехать в Галилею сухопутным путем, мы, естественно, захотели получить обратно наши документы и отправились к русскому консулу [в Иерусалиме. -Е.ГЦ, надеясь, что он поможет нам выйти из нашего анекдотического положения. Но этот высокий, худой человек встретил нас очень сухо и, выслушав в чем дело, отказался нам помочь, посоветовав обратиться к консулу в Яффе. / - Да и чем вы мне докажете, что вы не еврей? - сказал он Яну. / За завтраком телеграмма от Шора: / “Послезавтра отходит пароход в Бейрут, если едете, то будьте завтра в Яффе”» [Муромцева-Бунина 1989, 333-334]. Как указывает М. Гольдман [Гольдман 2000], эти «розовые билеты» - особые документы для трехмесячного пребывания в Палестине, выдававшиеся паломникам-евреям, чтобы они не смогли остаться насовсем. Давид Шор разрабатывает (или активно участвует в разработке) дальнейшее путешествие - через Баальбек, Дамаск - на Тивериадское озеро и в Назарет. Шор зовет их и в сионистские колонии, но Бунин и Муромцева отказываются [Муромцева-Бунина 1989, 342-343]. Возможно, Бунины поступили так, как делают многие неопытные путешественники, - положились на спутников, продумавших все заранее.
Однако в первых редакциях очерка «Тень птицы» (написан в 1907 г, опубликован в 1908 г., в 1915 г. стал начальным очерком книги «Храм солнца») повествователь сообщал, что взял в поездку «<...> бейрутское издание истории Баальбека - Храма Солнца, к которому я совершаю паломничество <...>» [Бунин 1908, 233], [Бунин 1915, 102]. Обычно в мелочах травелог Бунина верен. Тогда следует предположить, что изначальный план, намечающий основные точки маршрута, все-таки был -ив него сразу входило святилище в Баальбеке. При этом Храм Солнца - важнейшая точка бунинского травелога, локус обретения Бога. Здесь вопрос о начальном маршруте упирается в поэтику литературного текста.
Еще один заезд в Бейрут Бунин совершил по пути на Цейлон в декабре 1910г. (по новому стилю - в январе 1911г). Это краткое пребывание никак не отразилось ни в прозе, ни в поэзии, некоторую информацию о нем можно найти лишь в переписке. 23 декабря (на следующий день после прибытия) Бунин писал брату Юлию: «Ни один самый лучший день нашего лета не сравнится с этими двумя днями, что мы в Бейруте. И говорят, что почти месяц - изо дня в день такая погода здесь» [Бунин 2007, 161]. Интересно, что в тексте письма актуализирован райский хронотоп, характерный для очерка «Храм солнца» (поездка из Бейрута в Баальбек).
Вторая линия изучения травелога - стихи о путешествии. Их можно разделить на три типа. Во-первых, напоминающие формой путевые очерки. Иногда наблюдается полнейший параллелизм зарисовок в стихах и прозе. Вот важный эпизод очерка «Иудея» - вид с иерусалимской крыши:
«Солнце на закате. Я выхожу на крышу, снимаю пробковый шлем, и по голове моей дует с запада сильный и прохладный ветер. <.. .>
“Иерусалим, устроенный, как одно здание!” - вспоминаю я восклицание Давида. И правда: как одно здание лежит он подо мною, весь в каменных купольчиках, опрокинутыми чашами раскиданных по уступам его сплошной кровли, озаренной низким солнцем. Первобытно-простой по цвету, первобытно-грубый по кладке, без единого деревца, - только одна старая высокая пальма на южной стороне, - он весь заключен в зубчатую толщу стен и кажется несокрушимым» [Бунин 1936, 241-242].
Такой же «путевой», очерковый эпизод есть и в стихотворении «Иерусалим» (1907):
В полдень был я на кровле. Кругом, подо мной, Тоже кровлей, - единой, сплошной, Желто-розовой, точно песок, - возлежал Древний город и зноем дышал.
Одинокая пальма вставала над ним На холме опахалом своим, И мелькали, сверлили стрижи тишину, И далеко я видел страну [Бунин 2014, 38].
Две подробности: город как одна сплошная кровля (Иерусалим предстает как древний город-дворец, что характерно, например, и для Крито-Микенской культуры в Греции) и одинокая пальма на холме - повторяются в обоих текстах. С историко-литературной точки зрения интересна очерковая поэтика стихотворений.
Во-вторых, стихотворения мифопоэтического плана (близкие паломническому мышлению), оживляющие древние предания. Так, написанное в 1907 г. стихотворение «Трон Соломона» пересказывает историю из Корана о сказочном троне царя.
Стихотворения третьего типа комбинируют два предыдущих: они, с одной стороны, сохраняют публицистическую точность эпизодов поездки, с другой - вносят в текст мифопоэтическое звучание. Так, стихотворение 1907 г. «На пути под Хевроном...» завершается стихом «И темно было в древней гробнице Рахили» [Бунин 2014, 40]. Этот стих использует конкретный эпизод поездки, изложенный с детальной точностью (точен сам ход экскурсии: днем - могилы Авраама и Сарры в Хевроне, вечером в темноте - гробница Рахили близ Иерусалима, точен и эпизод с шакалом: «Поздней ночью я слышал / Плач ребенка - шакала» [Бунин 2014, 40]). В комментарии Т.М. Двинятиной к этому стихотворению приводится цитата из позднего очерка В.Н. Муромцевой-Буниной: «Когда он <Бунин> был почти у входа, мимо него стремглав пролетел какой-то зверь. - Шакал! -радостно крикнул нам Ян, обернувшись» [Бунин 2014, 370]. Отметим, что в воспоминаниях этот эпизод относится не ко входу в часовню над могилой Рахили, а ко входу в пещеры Иеремии на южной окраине Иерусалима. Тот же шакал (у входа в пещеру Иеремии) появляется и в очерке Бунина «Иудея». С другой стороны, стих «И темно было в древней гробнице Рахили» переключает эпизод в метафорический план: в гробнице вечно темно; вечность и темнота стоят в одном символическом ряду; Рахиль покоится уже не в этой гробнице, а где-то вне земной юдоли (гробница так же пуста, как и Гроб Господень).
Ранние стихотворения о Палестине, таким образом, могут быть названы травелогом первого уровня (литературоведение рассматривает стихи и особенно стихотворные циклы как особые формы травелога), книга очерков - травелогом второго уровня, стихотворения более поздние - травелогом третьего уровня. Отметим, что заглавия некоторых стихотворений повторяются в заглавиях очерков: очерк «Храм солнца» (1909) дублирует заглавие стихотворения «Храм солнца» (1907), очерк «Море богов» (1907) соотносится со стихотворным минициклом с тем же заглавием (1924), объединяющим три стихотворения 1916 г. Не оставляет ощущение, что это не просто параллелизм стихотворных и прозаических сюжетов, но единый метатекст, свойственный поэтике (травелога) XX столетия.
Важнейший вопрос изучения стихотворений - определение полного списка текстов, составляющих палестинский цикл. Циклизацию стихотворений сам автор провел непоследовательно. В 1917 г. он соединил 19 стихотворений, повествующих о поездке 1907 г, с книгой очерков «Храм солнца», издав стихи и прозу единым циклом. А в 1936 г. в I томе собрания сочинений картина изменилась: книге очерков предшествовала подборка стихотворений 1888-1907 гг, в которой стихи, созданные по следам поездки 1907 г, идут почти подряд, но местами проложены стихами на другие темы - хронологический принцип здесь торжествует над тематическим. Состав и последовательность палестинских стихотворений в этом издании иные. Таким образом, есть как минимум два авторских варианта «палестинского цикла», однако в оба варианта не попали более поздние стихотворения. По-видимому полный «палестинский цикл» Бунина должен быть сформирован литературоведами (как «Петербургские повести» Н.В. Гоголя), только тогда нам станут видны все мотивно-тематические связи и можно будет полноценно говорить о поэтике палестинских (или шире - средиземноморских, включая константинопольские и египетские) стихотворений. Сопоставление стихотворного цикла с прозаическим может заиграть новыми красками.
Третья линия исследования бунинского травелога - основная - связана с изучением книги «Храм солнца», собранной из отдельных очерков в 1915 г. (в 4 томе Полного собрания сочинений). Книга еще не прочитана по-настоящему (большинство монографий о Бунине обходит ее стороной, оставшаяся часть - кратко пересказывает), поскольку путевая проза на протяжении всего XX столетия считалась несущественным дополнением к основным произведениям автора. Показательна история первой публикации очерка «Иудея». Редактор сборника «Друкарь» Н.Д. Телешов спрашивал Бунина в 1909 г: «Ответь, пожалуйста, сейчас же: что ты думаешь мне прислать: палестинское или из жизни?» [Бунин 2007, 526]. Бунин в ответ писал: «<...> спроси мнение Юлия <Ю.А. Бунин - старший брат писателя, публицист и литератор> - он человек редко беспристрастный -о моем Константинополе - “Тень птицы” <т.е. очерк о Константинополе под заглавием «Тень птицы». - Е.П>, - он перечитал ее, вернувшись из поездки в те края, - и согласись с ним, что это - вещь нешуточная; говорю же это я к тому, что если бы, паче чаяния, я и дал тебе о Палестине, то это было бы уж не так и плохо. Это последний <на тот момент. - Е.П> мой рассказ о поездке, и придаю я ему большое значение, пишу его давно, отношусь к нему так серьезно, что не печатаю уже года полтора <...>» [Бунин 2007, 122].
Начнем с того, что знаем мы эту книгу очерков под заглавием промежуточного варианта: «Тень птицы». При жизни автора книга выдержала четыре издания (1915, 1917, 1931, 1936). Только издание 1931 г. имеет заглавие «Тень птицы»; все остальные, включая последнее прижизненное, озаглавлены «Храм солнца». И по принципу частотности, и по принципу последней авторской воли книга должна иметь заглавие «Храм солнца». Однако А.К. Бабореко, узнав, что Бунин в 1953 г. исправил заглавие, издал книгу в СССР как «Тень птицы». Вся советская и постсоветская традиция считает его основным. В рамках подготовки научных изданий прозы Бунина имеет смысл, в первую очередь, вернуть заглавие, под которым книгу 138
знали современники.
История текста «Храма солнца» требует отдельной статьи. Как почти всегда у Бунина, текст сокращается от первого издания к последнему. Наиболее существенному сокращению автор подверг книгу в третьем издании 1931 г. При этом были потеряны многие важные коннотации, которые имеет смысл восстановить в научном издании. Интересно посмотреть на правку как на новый этап развития травелога: выведение за скобки одних впечатлений, усиление других.
Поэтика «Храма солнца» весьма сложна. Она объединяет несколько типов нарратива. В первых очерках преобладают жанры туристического повествования (от путеводителя до зарисовок с натуры) в соединении с мифопоэтикой символизма, во второй половине книги к ним добавляется паломнический нарратив (отчасти языческий, отчасти христианский). Объединяет эти различные жанры (как ни странно это прозвучит) мифо-поэтика, близкая символизму. Повествователь объезжает мир Восточного Средиземноморья, формируя в своих «путевых отчетах» идею единой иу-део-христианско-мусульманской евразийской цивилизации. Травелог Бунина становится важнейшим травелогом Серебряного века.
Список литературы И.А. Бунин и Палестина. К постановке проблемы
- Гольдман М. Иван Бунин и Давид Шор в Иерусалиме // Иерусалимский журнал. 2000. № 3. URL: https://new.antho.net/wp/jj03-goldman (дата обращения 03.03.2020).
- Ковалева Т.Н. Библейский хронотоп в "путевых поэмах" И.А. Бунина "Тень птицы" // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск; СПб, 2015. С. 507-526.
- Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 1989.
- Пономарев Е.Р. Постколониальная теория и литература путешествий. Взгляд из России // Новое литературное обозрение. 2020. № 1 (161). С. 355-377.
- Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия. Изд. 2, испр. и доп. СПб., 2013.
- Пронин А.А. Евангельский "след" в цикле путевых рассказов И.А. Бунина "Тень птицы" и поэма В.А. Жуковского "Агасфер" // Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX вв. Вып. 3. Петрозаводск, 2001. С. 459-464.
- Шор Д. Воспоминания / подг. текста Ю. Матвеевой. Иерусалим; М., 2001. URL: http://maxima-library.org/component/maxlib/b/404697?format=read (дата обращения 28.04.2020).