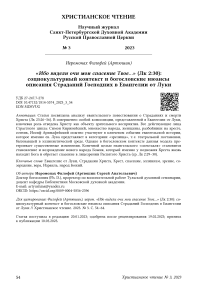«Ибо видели очи мои спасение твое...» (ЛК 2:30): социокультурный контекст и богословские нюансы описания страданий Господних в Евангелии от Луки
Автор: Артюшин С.А.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Библеистика
Статья в выпуске: 3 (106), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу евангельского повествования о Страданиях и смерти Христа (Лк 23:26-56). В совершенно особой композиции, представленной в Евангелии от Луки, ключевая роль отведена Христу как объекту зрительного восприятия. Все действующие лица Страстного цикла: Симон Киринейский, множество народа, женщины, разбойники на кресте, сотник, Иосиф Аримафейский опытно участвуют в ключевом событии евангельской истории, которое именно ев. Лука представляет в категориях «зрелища», т. е. театральной постановки, бытовавшей в эллинистической среде. Однако в богословском контексте данная модель претерпевает существенные изменения. Конечной целью евангельского «спектакля» становится становление и возрождение нового народа Божия, который именно у подножия Креста вновь находит Бога и обретает спасение в лицезрении Распятого Христа (ср. Лк 2:29-30).
Евангелие от луки, страдания христа, крест, спасение, эллинизм, зрение, созерцание, вера, израиль, народ божий
Короткий адрес: https://sciup.org/140301652
IDR: 140301652 | УДК: 27-247.7-278 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_3_54
Текст научной статьи «Ибо видели очи мои спасение твое...» (ЛК 2:30): социокультурный контекст и богословские нюансы описания страданий Господних в Евангелии от Луки
Рассматривая события Страстной седмицы — и, в особенности, Страдания и смерть на Кресте Спасителя — в контексте евангельской традиции, мы можем выявить между ними важные внутренние взаимосвязи, ярко характеризующие богословский контекст избранных евангельских рассказов. Останавливая свой взор на живом и живописном повествовании ев. Луки, можно найти много интересных деталей и отличительных штрихов, которые в совокупности позволяют реконструировать библейско-богословскую канву его редакционной работы.
С точки зрения содержания, оперируя литературоведческими терминами1, в Страстном цикле у ев. Луки (Лк 23:26–56) представляется возможным проследить интересную сюжетную и тематическую линию, которая выстраивается вокруг следующих ключевых богословских мотивов: следование за Христом по пути Страданий (via crucis), молитва Христа на Кресте, которой вторит исповедание благоразумного разбойника; спасение, которое обретает последний по слову Господню (cр. Лк 23:43). Сюда необходимо также отнести и исповедание Христа Праведником со стороны римского сотника (Лк 23:47) и, наконец, как апогей отмеченного тематического развития евангельского сюжета, — созерцание, или «зрелище», Распятого Христа на Кресте.
Прежде чем мы углубимся в намеченную проблематику, будет уместно представить в схематическом виде евангельскую композицию Страстного цикла, составные элементы и последовательное развитие которого мы и попытаемся осветить в ходе дальнейшего анализа.
Композиция Страстного цикла в Евангелии от Луки (Лк 23:26–56)
ВСТУПЛЕНИЕ: Симон Киринейский, следующий за Христом (26)
Обращение к Иерусалиму: народ и женщины, оплакивающие Христа (27–31) 27 Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν
Пауза: два разбойника со Христом (32)
Триптих
-
I. Распятие (33–34)
-
II. Возле Креста Господня: народ и солдаты (35–38)
-
35 Καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν.
ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες […]
-
III. На Кресте: два разбойника (39–43)
Диптих
-
IV. Смерть Христа (44–47)
-
V. КУЛЬМИНАЦИЯ
Евангельское «зрелище»: сотник, народ и женщины (47–49)
-
47 Ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον ἐδόξαζεν τὸν θεὸν
-
48 καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην
θεωρήσαντες τὰ γενόμενα
-
49 Εἱστήκεισαν δὲ πάντες
οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ὁρῶσαι ταῦτα.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: снятие со Креста и погребение Христа (50–54)
Финал: женщины у Гроба Господня (55–56)
-
55 Κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι
ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον
Комментируя предложенную нами композицию, нельзя не отметить гениальность творческого замысла ев. Луки, разрабатывающего свой, совершенно особенный, ни на что не похожий — стратегически ориентированный — рассказ2, героями которого становятся многочисленные спутники Христа, выходцы из всевозможных социальных слоев тогдашнего общества3: Симон Киринейский, народ и женщины, разбойники, сотник, римские солдаты, Иосиф Аримафейский как представитель иудейской знати.
Начало Крестному пути Спасителя полагается неким Симоном из Киринеи, который в своем лице воплощает евангельскую модель следования за Христом4, поскольку безропотно берет на себя Крест Христов и направляется, вслед за Мессией, к месту Страданий. Наряду с ним так же неотступно следует за Спасителем множество народа , среди которого евангелист намеренно выделяет женщин , оплакивающих своего Божественного Учителя.
Таким образом, в этой уникальной евангельской композиции, призванной подготовить декорации для готовой развернуться в скором времени драмы, рельефно выделяются на общем фоне два мотива, которые сменяют друг друга и перекликаются на уровне повествования: следование за Христом и плач как предвестник грядущей трагедии. Самое активное участие в ней примут и двое разбойников, замыкающих шествие и самим примером своего насильственного ведения на смерть указывающих на конечную цель евангельского рассказа, немыслимого для ев. Луки в отрыве от истории спасения5.
На этом заканчивается Вступление, задающее тональность и координаты всей последующей истории. Красной нитью в нем проходит мотив следования за Христом по пути самоотвержения и страданий со стороны Его ближайших учеников и последователей. В эту процессию последовательно вовлекаются герои и антигерои евангельского рассказа; их торжественное шествие в тени Божественного Страдальца уже указывает на сценическую выразительность и особый драматизм истории Страданий в версии ев. Луки. Действие развивается в направлении кульминации и логической развязки, которая совершится на Кресте и выльется в описание идеальной картины, визуализирующий эффект которой можно сравнить с тем, что представляет зрителю икона. Вторая часть — триптих — Страстного цикла открывается резюмирующим указанием на место Распятия и взаимное расположение распятых со Христом разбойников: внимание намеренно акцентируется на фигуре Распятого Мессии6. Как мы увидим далее, на протяжении рассказа эта динамика будет все более усиливаться благодаря настойчивым указаниям евангелиста на зрителей, буквально прикованных к рассматриванию Распятого Мессии.
На зрительный эффект всего происходящего указывает самый синтаксис оригинального греческого текста, постепенно фокусирующего наш взгляд сначала на том, что происходит подле Голгофы, а затем уже на самом Кресте. Так, в стихе, открывающем описание Распятия (Лк 23:35), наглядно сопоставляются два действия: и стоял народ и смотрел, а начальники смеялись над Ним... 7 Греческая синтагма Xaog Qeopov вызывает у читателя интерес уже по той причине, что обозначаемый ей собирательный образ до сих пор встречался нам то в паре с женщинами , то с начальниками и вои-нами 8 ; при этом в обоих случаях довольно трудно отождествить евангельский народ с указанными группами лиц, поскольку единственным отличительным его признаком служит именно напряженная зрительная активность9. В тексте, как ни странно, отсутствует какое-либо указание на объект этого идеализированного акта созерцания, что усиливает его коммуникативный резонанс в пределах повествования.
Завершающий аккорд рассматриваемого нами нарративного триптиха отмечен особой торжественностью: несмотря на нечеловеческие страдания, которые претерпевают двое разбойников, распятые на Кресте вместе со Спасителем, евангелист намеренно акцентирует наше внимание на драматичном диалоге, в котором сначала участвуют сами разбойники, а затем открытая ими дискуссия выливается в удивительную — назовем ее идеальной — беседу Христа с благоразумным разбойником. Символизм встречи двух сердец в момент наивысшего напряжения всех физических и духовных сил со стороны человека уже предуказывает развязку всего Страстного цикла; конечную цель той зрительной динамики, начало которой положили напряженные взоры народа: райское блаженство в Царствии Божием, обетованное разбойнику, вскоре станет неминуемой реальностью для всех без исключения участников Голгофских событий.
Третья и заключительная часть рассматриваемого евангельского цикла — диптих — посвящена описанию ключевых, с точки зрения стратегического развития рассказа, событий. Смерть Спасителя на Кресте предваряется общим для синоптиков указанием на наступление тьмы ; однако только ев. Лука добавляет к этому важный нарративный штрих — солнечное затмение , вслед за которым раздирается завеса Храма. Отмеченные нюансы, несомненно, играют немаловажную роль в редакционно-богословской интерпретации описываемых евангелистом событий10. Как справедливо отмечает итальянский исследователь Б. Претэ, в этом рассказе «космическо-апокалиптические элементы сглажены благодаря спокойному и доверительному тону повествования о смерти Христа» [Prete, 1996–1997, 116].
В этом направлении следует рассматривать и многочисленные акценты на обращенные Спасителем к своей аудитории слова: грозного пророчества, утешения и ободрения, молитвы; наконец, всецелого предания Себя в руки Бога Отца, во исполнение Его святой воли, до последнего вздоха11, — и загадочное указание на народ, пристально смотрящий на Распятого Христа. Вокруг этого коллективного образа, как мы увидим, будет собран целый сонм свидетелей, или, лучше сказать, зрителей совершающегося на Кресте спасения. Их появление предваряет реакция римского сотника, который так же взирает на Висящего на Древе Праведника и исповедует Его невиновность.
Отмеченная нами особенность — сценическая наглядность в описании св. Лукой происходящих событий — подтверждается и тем, как мастерски евангелист подытоживает свой рассказ, венчая искусно созданную им композицию указанием на предстоящих у Креста всех знавших Христа и женщин , относящихся к числу Его последователей. В их презентации обращает на себя внимание незначительная, казалось бы, деталь: стояли вдали и смотрели (Лк 23:49). Необходимо отметить, с одной стороны, очевидную параллель с самым первым, еще до момента Распятия, выходом на сцену народа , так же безмолвно стоявшего и взиравшего на все происходящее.
С другой стороны, внесение в повествование пространственного маркера — вдали — сообщает новое звучание уже неоднократно отмеченной нами тенденции к визуализации истории Страданий со стороны евангелиста. Все это указывает нам на необходимость постоянно напрягать свой взор, чтобы не только увидеть Лик Христа, Страдающего на Кресте, но и во всех подробностях рассмотреть за этим красоту Божественного замысла о мире и человеке. В этом и заключается конечная цель так настойчиво и последовательно выстраиваемой евангелистом эстетики12.
Сцена снятия и положения Спасителя во гроб не менее важна для понимания стратегии евангельского рассказа. Гениальность творческого замысла св. Луки как евангелиста и рассказчика заключается в том, что главный герой данной сцены,
Иосиф Аримафейский, венчает собою серию персонажей, судьбы которых отмечены провиденциальной встречей со Христом: последние почести, оказываемые им Своему Учителю, не только свидетельствуют о силе его сыновней любви, расположения и привязанности к Последнему, но и в определенном смысле заставляют нас сделать важные выводы из всей истории Страданий. Кроются же они в Божественном идеале милосердия, на котором настаивает евангелист на протяжении всего повествования.
Действительно, как утверждает Д. Тремолада, череда событий, начало которым полагают «Тайная вечеря и Гефсиманское моление раскрывают подлинную природу и реальные размеры милосердия, которое скрывается за „зрелищем“ Креста» [Tremolada, 2002, 185]. Оставляя на данный момент открытым детальное рассмотрение данного вопроса, заметим лишь, что рассказ о погребении Христа завершается так же гениально, как он и был начат: его венчают первые лучи субботнего утра13. Это — многозначительная отсылка к заре Воскресения Христова: того самого Дня спасения, которое совершает на Кресте Мессия14.
Заключительный штрих, евангельский финал Страстного цикла, представляет собой инклюзию, поскольку вновь обращает наш взор на силуэты ближайших последователей Христа15: и вновь этот идеал воплощают в себе евангельские жены, будущие мироносицы, начавшие свой путь самоотречения и беззаветного служения своему Возлюбленному Учителю от самой Галилеи16. Их преданность проявляется в том внимательном обозревании отдаваемых Спасителю последних почестей, на котором останавливает свой взор и внимательный читатель евангельского рассказа. Вновь и вновь обозревая вместе с мироносицами всю эту — рассмотренную нами лишь конспективно — драматичную историю Страданий, мы можем наконец задаться вопросом, к осознанию чего она приводит героев повествования, а вслед за ними и нас самих.
Ответ на этот вопрос может скрываться в том центральном — и по своему расположению, и по богословской значимости — стихе, который мы намеренно обошли вниманием в ходе анализа и коммуникативный потенциал которого раскрывается именно сейчас; один лишь этот евангельский стих (Лк 23:48) вбирает в себя многочисленные богословские векторы, отмеченные нами на протяжении всего Страстного цикла.
Речь идет о собравшемся вокруг Распятия народе: цель этого собрания евангелист многозначительно обозначает термином «зрелище»17. На стратегическое расположение данной сцены в целостной композиции рассказа, помимо всего прочего, указывает скопление в ней терминов и выражений, относящихся к зрительному вокабуляру и занимающих ярко выраженную пространственную нишу. Статический эффект уже неоднократно упоминавшейся нами синтагмы «стоять и смотреть»18 проявляется именно здесь, когда евангельское «зрелище» подготовлено и зрители собраны.
Все это однозначно свидетельствует о том прагматическом потенциале19, который заключает в себе данный, казалось бы незначительный, повествовательный штрих. Следуя тщательному анализу риторической и сценической организации театрального действа согласно П.-Г. Клумбису, и пытаясь прояснить социокультурный контекст евангельской эстетики, возьмем на себя смелость утверждать, что опыт веры всех без исключения участников событий Страстной недели обусловлен, в первую очередь, тем неизгладимым отпечатком, который накладывает на них созерцание и рассматривание всего происходящего. Повествование ев. Луки, под стать театральной пьесе, не может не оказывать на зрителей своего воздействия, и «это предполагает, что [открывающаяся их взору] сцена прежде всего задевает за живое и будоражит их мироощущение» [Klumbies, 2003, 199]. Все рассмотренные нами выше перипетии Страстного цикла являются наглядным тому подтверждением.
С формальной точки зрения отмеченный прагматический эффект проявляется благодаря единству сценария, которое, в свою очередь, достигается с помощью унификации всех составляющих его элементов; их цель — сориентировать в определенном направлении взгляд читателя, выступающего в данном случае в качестве зрителя, наравне с действующими лицами евангельского сюжета. Уточняя затронутую проблематику, необыкновенно важную именно в контексте третьего Евангелия, подчеркнем, что «в контексте „феории“ (θεωρία) объединяются восприятие [объекта] органами чувств и сокрытый в нем смысл, сводятся воедино внешние и внутренние его характеристики, связываются друг с другом взгляд со стороны и подлинное понимание рассматриваемого объекта20, и [все это вместе] образует единство сценария» [Klumbies, 2003, 199].
С содержательной стороны не менее важно указать и на то, что единство сценария обеспечивают следующие четыре приема, характерные для театрального искусства в античности:
-
1) аранжировка освещения;
-
2) открытие занавеса;
-
3) фокусировка внимания на избранном объекте;
-
4) реакция зрителей.
Проводя параллели с описанными в Евангелии событиями, нельзя не заметить очевидные черты сходства евангельской сценографии с классической моделью театрального действия. Для наглядности приведем соответствующие этой модели евангельские стихи в порядке их очередности:
-
1) наступление тьмы и солнечное затмение (ст. 44–45а);
-
2) раздрание Храмовой завесы (45b);
-
3) Христос на Кресте как средоточие евангельского «зрелища»: θεωρία (48а);
-
4) возвращение народа: пенитенциарный жест ( бия себя в грудь : 48b).
Из проведенного сравнения явствует, что сценография смерти Христовой в Евангелии от Луки соответствует — причем в ярко выраженной и единственной в своем роде форме, в контексте Нового Завета, — концепту «феории» как terminus technicus для указания на театральную постановку, спектакль. Разрабатывая подобную — стратегически и прагматически ориентированную — литературную композицию, евангелист, несомненно, мог черпать вдохновение в практическом функционировании эллинистических театров. На вероятность подобного рода социокультурного фона для евангельской драматургии Страданий и смерти Спасителя указывает и сама аудитория третьего Евангелия, вне всяких сомнений, не понаслышке знавшая языческих авторов-теоретиков риторического искусства в контексте греко-римского мира21.
Подводя итоги данного исследования, попытаемся дать богословскую оценку тем сюжетным особенностям евангельского рассказа, на которые мы взглянули сквозь призму литературоведения и истории. Какой смысл мог вкладывать священный автор в рассмотренную композицию, совершенством и действенностью которой в отношении читателя нельзя не восхищаться? Ответ на этот вопрос кроется, как всегда, в самом Священном тексте, ориентирующем наш взгляд в направлении той драматической развязки, которая происходит у подножия Креста.
Евангельский народ, который собирается вокруг Распятия22 для лицезрения совершающегося на Кресте спасения, символизирует собой путь каждого верного ученика и последователя Христа. Как когда-то начальник мытарей Закхей уловляется милосердным взглядом Спасителя и обращается от неправедной жизни, исповедуя перед Богом свои грехи, так и народ, взирая на происходящее, признает свою вину и приносит покаяние, ударяя себя в грудь23. Этот акт безоговорочного признания своего греха в совершенном беззаконии находит на уровне повествования прецеденты в лице женщин, которые оплакивают Грядущего на смерть Страдальца, и римского сотника, который — наперекор всему тому, что творят над Распятым его соотечественники, — признает и открыто исповедует Его праведность.
В богословском контексте Евангелия от Луки в осознании со стороны человека своей греховности и неправоты кроется удивительный унифицирующий принцип, пронизывающий все библейские повествования Ветхого и Нового Завета. Он заключается в беспредельности милосердия Божия, которое не только настигает кающегося грешника, но и предшествует самому раскаянию, подводя человека к осознанию гнездящегося в нем греха. Ярким тому свидетельством служит тот длительный, напряженный и тернистый путь, который проходят евангельские персонажи на протяжении истории Страданий в Евангелии от Луки. Этот путь символизирует интенсивная зрительная активность стоящего и смотрящего на Распятого Мессию народа.
В нем, как в идеальном образе, собираются все лучшие силы и умы богоизбранного Израиля, проповедующие самой своей жизнью то евангельское милосердие — Божие милосердие, опытно открывающееся человеку в обращенном на него со Креста взгляде Спасителя, — которое и становится залогом их духовного обновления и объединения: в новый Израиль, народ Божий, наследник спасения, уготованного и совершаемого Самим Богом24.
В конечном итоге, у истоков евангельского «зрелища» стоит знаменитое пророчество св. прав. Симеона Богоприимца, которое и положило начало истории спасения, достигающей своего апогея при Кресте Господнем: Ибо видели очи мои спасение Твое… 25
Список литературы «Ибо видели очи мои спасение твое...» (ЛК 2:30): социокультурный контекст и богословские нюансы описания страданий Господних в Евангелии от Луки
- Марциал (1994) — Марциал Марк Валерий. Эпиграммы / Пер. Ф.А. Петровского. СПб.: Изд-во АО «КОМПЛЕКТ», 1994.
- Пантелеев (2014) — Пантелеев А.Д. Христианское мученичество в контексте римских зрелищ // Проблемы истории, филологии, культуры. 2014. № 2. С. 75-89.
- Филофей Артюшин (2019) — Филофей (Артюшин), иером. Богословские и прагматические аспекты дара рассуждения в посланиях ап. Павла // Библия и христианская древность. 2019. Т. 2. №2. С. 231-253.
- Филофей Артюшин (2020) — Филофей (Артюшин), иером. Увидеть Христа глазами веры: богословская программа и сюжетный замысел Евангелия от Луки на примере нарративного портрета Ирода Антипы // Актуальные вопросы церковной науки. 2020. №2: Материалы XI международной научно-богословской конференции «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». Санкт-Петербург, 24-25 сентября 2019 года. С. 126-133.
- Фоломешкина (1999) — Фоломешкина С. Современные интерпретации Евангелия от Марка в американских экзегетических школах. М., 1999.
- Fusco (2003) — Fusco V. La morte del messia (Lc 23:26-49) // Fusco V. Da Paolo a Luca. Studi su Luca-Atti. Brescia, 2003. Vol. II. P. 495-520.
- Grilli (2006) — Grilli M. et al, ed. Riqueza y solidaridad en la obra de Lucas. Estella, Navarra: Verbo Divino, 2006.
- Klumbies (2003) — KlumbiesP.-G. Das Sterben Jesu als Schauspiel nach Lk 23, 44-49 // Biblische Zeitschrift. 2003. No. 47. S. 186-205.
- Kodell (1961) — Kodell J. Luke's Use of Laos, «People», Especially in the Jerusalem Narrative (Lk 19, 28-24, 53) // Catholic Biblical Quarterly, 1961. No. 31. P. 327-343.
- Neyrey (1985) — Neyrey J. The Passion According to Luke. A Redaction Study of Luke's Soteriology. New York; Mahwah, 1985.
- Prete (1996-1997) — Prete B. La passione e la morte di Gesü nel racconto di Luca. Brescia, 1996-1997. Vol. II. P. 37.
- Tremolada (2002) — Tremolada G. Il valore salvifico della morte di Gesü nell'opera di San Luca // San Luca Evangelista Testimone della Fede che unisce / Ed. by Leonardi, G., Trolese, F. G. B. Padova, 2002. P. 179-186.