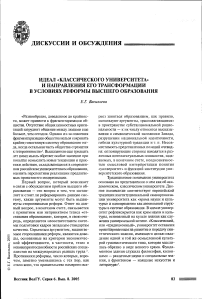Идеал «классического университета» и направления его трансформации в условиях реформы высшего образования
Автор: Васильева Е.Г.
Журнал: Artium Magister @artium
Рубрика: Дискуссии и обсуждения
Статья в выпуске: 8, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14973826
IDR: 14973826
Текст статьи Идеал «классического университета» и направления его трансформации в условиях реформы высшего образования
Е.Г. Васильева
«Разнообразие, доведенное до крайности, может привести к фрагментаризации общества. Отсутствие общих ценностных ориентаций затруднит общение между людьми еще больше, чем сегодня. Однако из-за опасения фрагментаризации общества нельзя сохранять крайне гомогенную систему образования тогда, когда остальная часть общества стремится к гетерогенности»1. Высказанная еще тридцать лет назад мысль обретает особое значение при попытке осмыслить новые тенденции и практики действия, складывающиеся в современном российском университетском образовании, оценить перспективы реализации предлагаемых проектов его модернизации.
Первый вопрос, который возникает в связи с обсуждением проблем высшего образования — это вопрос о том, что заставляет и стоит ли реформировать данную систему, какие аргументы могут быть выдвинуты сторонниками реформ. Ответ на данный вопрос, в конечном счете, связывается с принятием или непринятием тезиса «отставания образования», которое, в свою очередь, определяется несоответствием системы подготовки кадров западным стандартам качества. Серьезным аргументом, выдвигаемым сторонниками реформ, являются доводы, основанные на критерии экономической эффективности, в частности, тезис о неконкурентоспособности российских специалистов на международных рынках труда2. Противники реформы, число которых, впрочем, заметно уменьшилось с тех пор, как стало ясно, что правительство намерено все- рьез заняться образованием, как правило, используют аргументы, «располагающиеся» в пространстве субстанциональной рациональности — к их числу относятся высказывания о символической экспансии Запада, разрушении национальной идентичности, гибели культурной традиции и т. п. Несовместимость представленных позиций очевидна: оппонирующие стороны находятся в различных интеллектуальных плоскостях, задаваемых, в конечном счете, неоднозначностью смысловой интерпретации понятия «университет» и функций институции университетского образования.
Традиционное понимание университета основано на представлении о нем как об академическом, классическом университете. Данное понимание соответствует европейской традиции институциональной самоорганизации университета как «храма науки и культуры» и одновременно как автономной структуры в системе образования. В идеале университет рефлексируется как храм науки и культуры, основанный на культе знания как служения универсальной истине. «Классический, или «традиционный», университет оставался ориентированным на развитие и передачу синтетического знания, имеющего целью овладение одной и той же осмысленной культурой гуманистического типа, которая мыслилась образно в виде некоего храма. Фундаментом здания служила философия, колоннами — различные науки и специальные знания, а фронтоном — изящные искусства и литература»3.
Оценивая представленную позицию, следует подчеркнуть противоречивость ее исходных концептуальных положений, которые подвергаются обоснованной критике со стороны постмодернизма и либерально-прагматического подхода, выдвигающих в противоположность идее «знания как истины» идеи «знания как власти» и «знания как производства информации». Теоретическая недостаточность апелляций к идее классического университета очевидна при обращении к действительной истории развития университета как образовательной институции. Эта история обнаруживает значительную и все более возрастающую дистанцию между университетской идеологией, воплощаемой в концентрированном виде в идеале гумбольтианско-го университета, и университетской прагматикой, воплощаемой в факте возникновения периферийного, локального университета. Этот университет инициируется административно-целевым образом, возникает как «институция без философской идеи», а только «в соответствии с цивилизованными образцами и эталонами», базируется не на принципе разума, а только в качестве идейнопатриотической легитимации; «представляет собой культурную институцию, завершающую национальное просветительское сооружение и воспроизводящую (национальные, т. е. локальные) идентичности»4.
С учетом данных обстоятельств, основным предназначением университета выступает не только открытие универсальной истины, но также сохранение и трансляция культурных кодов в историческом времени и пространстве, то есть создание знания, обеспечивающего самоидентификацию определенного сообщества в тех или иных социальноисторических символах.
Различие практик легитимирующих оправданий университетской институции стало отчетливо заметным в эпоху модерна, когда общенациональный социальный проект стал трансформироваться в общецивилизационный. Именно тогда, в дополнение к идее университета как хранилища знаний, конституировались принципы интеллектуальной свободы и автономности как определяющие условия существования университета.
В соответствии с этим в классическом университете не просто аккумулировалось знание, но культивировалось некоторое поле интеллектуального напряжения, посредством сопоставления (борьбы) идей и способов их аргументации. В качестве задачи университет ского образования провозглашалось приобщение к знанию посредством самоактуализации творческих мыслительных способностей, а сам университет стремился к интеллектуальному развитию студентов на основе принципов универсальности обучения, свободной циркуляции мысли и личного общения.
Безусловно, подобный идеал был возможен и развертывался в русле легитимации нового социального проекта, связанного с процессами модернизации и начинающейся глобализации. В идейном плане он отражал социальные притязания движений, дистанцирующихся от традиционных идентичностей, стремление ограничить властный контроль со стороны национального государства. В то же время именно «в странных процессах модернизации “универсальный университет” постоянно продуцирует своих неуниверсальных двойников — локальные, провинциальные образовательные учреждения, возникшие по его образу и подобию и превратившие центральные вопрошания в широко известные положения, в “престижные” цитаты для провинции»5.
С этих позиций представляется возможной демифологизация представления об интеллектуальной свободе и автономности. Эта демифологизация определяется пониманием того обстоятельства, что университетские институции долгое время действительно были единственными санкционированными властью формами институций, в рамках которых допускались оппозиционные, девиантные, маргинальные по отношению к господствующей культуре интеллектуальные практики. Если исходить из того, что социальный проект до-современ-ности основан на иерархической картине миропонимания, то следует отметить, что средневековый университет, с одной стороны, символически легитимизирует существующий социальный порядок и практики господства, с другой стороны, делегитимизирует «мирскую власть» посредством сакрализации знания. Классический академический университет реализует аналогичную функцию, легитимизируя наднациональные формы социального порядка и делегитимизируя «неразумные» социальные практики посредством создания системы универсального, «независимого» знания, отвечающего критериям рациональной обоснованности.
Фактически проект автономного университета удивительным образом продолжает традицию социализирующего воздействия функции университетской образовательной институции. В этом смысле можно вполне согласиться, что «...современный университет, по крайней мере последних двух столетий, вполне гармоничен внешнему миру — обще-ству-и-государству проекта “простой” современности. Он не обнаруживает глубинной контрастности ни с ценностями, ни с жизненными образцами внешнего мира. Более того, он служит институциональным и культурным целям внешнего мира. Современный университет хоть и продолжает настаивать на своей автономности, независимости и самодостаточности, на самом деле является инструментом легитимационной политики современных национальных государств и, возможно, поэтому приковывает к себе самое пристальное внимание власти»6.
Социализирующее предназначение институции университета определяется «перенаправлением» стихийных в своей основе творческих импульсов в русло общественных потребностей, интеграцией процессов мышления и действия, творческой самоактуализации и социальной самореализации. Процесс становления университета может соотноситься с процессом пассионарного выброса интеллектуальной энергии в эпоху становления общенациональных государств, но может связываться также с процессами социокультурной интеграции и диверсификации в эпоху становления глобального рынка. Исходя из этого, главная функция университета должна конституироваться как функция обеспечения стабильного, устойчивого развития общества посредством воспроизводства (переконструирования) идентичности в меняющихся социальных условиях.
В этом смысле классический (гумболь-тианский) университет обнаруживает свое несоответствие проекту постсовременности прежде всего в отношении принципа санкционированной оппозиционности. Требование универсализма парадоксальным образом противоречит принципу интеллектуальной свободы и автономности, поскольку, принижая значение локальной самоидентификации, отказывая ей в исторической перспективе, не рассматривая ее в качестве возможной интеллектуальной альтернативы, оно ограничивает возможности свободной дискуссии и, таким образом, подрывает свои собственные основания. Университетская прагматика, будучи ближе к социальной реальности, чем идеология, окончательно подрывает классический идеал, воспроизводя университетскую образовательную институцию в форме «фабрики знаний». Университет «не может сохранять, как в старые добрые времена, свою независимость, потому что оказывается вовлечен- ным в мощные, всех и вся трансформирующие социальные процессы: государство и экономика выступают в качестве могущественных и требовательных клиентов перед университетской институцией, которая все больше разрастается и подчиняется требованиям эффективности»7. Он все более и более дифференцируется и диверсифицируется, «рассыпаясь» в «горизонтальную» сеть образовательных единиц, предоставляющих услуги по профессиональной подготовке или производству специализированной информации и трансформирующих под влиянием прикладного принципа рыночной экономики «высокую» философскую миссию.
Сложившаяся ситуация, однако, совсем не так драматична, поскольку создает возможности роста (качественного преобразования) периферийного, локального университета, объективное положение которого в потенциале является в максимальной степени адекватным ожидаемым проектам будущего (способно воплотить принцип санкционированной оппозиционности). В то же время следует заметить, что идея университета как «фабрики знаний» в большей степени соответствует реалиям индустриального, чем современного, информационного общества. В индустриальном обществе, в котором унификация и стандартизация были доминирующими тенденциями, образование, тем не менее, сохранило определенную национально-культурную специфику (по крайней мере, до сих пор принято говорить об англо-саксонской, континентальной, американской системах образования).
Социальный проект постсовременности — это проект, основанный на сомнении в возможности достижения истины и построении универсального знания, проект, определяемый не только парадигмой «открытия знания» или парадигмой его «производства». В новых социальных условиях идеал автономного университета с необходимостью трансформируется в идеал открытого университета, легитимирующего локальные социальные практики и, одновременно, делегитимирующего любое властное воздействие на процессы создания и трансляции знания. Уникальность современной социальной ситуации заключается в том, что она обозначила необходимость соответствия требования универсализации образования объективным законами усвоения знания, которое осуществляется только посредством его последовательной и довольно длительной в истори-
■ ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ I ~....... ческом плане интеграции в существующий социальный опыт («картину мировосприятия») определенного культурного сообщества. Это означает, что критерии эффективности образования должны дополняться требованием качества, которые неотделимы от процессов индивидуализации и дифференциации образования и, более широко, бесконечного варьирования форм и методов передачи знания с учетом сложившихся социокультурных традиций социализации будущих поколений.
Новый идеал задает гуманитарную миссию современного университета, который в этом смысле становится неклассическим открытым университетом, включающем в себя агломерацию подструктур, отвечающих за «хранение», «открытие», «производство» знания, а кроме того осуществляющих функции его трансмиссии с учетом потребности глобального рынка в профессиональной социализации и потребности локальных культурных сообществ в обосновании идентичностей.
Данный идеал задает множественность направлений реформирования системы высшего образования в России. Современные проекты реформирования университета представлены в рамках широкого спектра концептуальных моделей: модели пассионарного университета, инновационного университета, предпринимательского университета, исследовательского университета, социального университета.
Несмотря на множественность существующих концепций, современная дискуссия по проблеме модернизации высшего образования до недавнего времени фактически определялась противостоянием стратегий «предпринимательского» университета и «национального социального» университета. Оба проекта достаточно хорошо известны по публикациям и выступлениям своих главных сторонников Я. Кузьминова и В. Садовничего и с точки зрения идеологического содержания характеризуются как проявления либеральной и неоконсервативной реформаторских традиций8.
Отстаивая адекватность предлагаемых моделей современным российским реалиям, обе стороны приводили достаточно веские аргументы и, несмотря на различие позиций, сходились в главном — в стремлении создать некую гомогенную организационную структуру, обеспечивающую прогнозируемое и управляемое движение ресурсов в рамках образовательного пространства России. Но именно такая позиция противоречит тенденции гете-рогенизации информационного пространства и, соответственно, идеалу неклассического открытого университета. Неслучайно критики предлагаемых моделей указывают на их социальную ангажированность, взаимосвязь с интересами министерского чиновничества или интересами столичных университетов. Говоря о перспективах модернизации системы образования, следует иметь в виду не только экономический эффект того или иного проекта реформирования системы (хотя это, безусловно, важно, поскольку критерии экономической эффективности, в конечном счете, имеют социальное обоснование) и не только возрождение элитарной традиции в высшем образовании, но и меру легитимности предлагаемого проекта с позиций того «молчаливого большинства», которое сосредоточено большей частью в периферийных университетах и которому по роду профессиональной деятельности предстоит воплощать в жизнь проектируемое будущее.
Суммируя наиболее важные изменения в системе высшего образования, произошедшие за последнее десятилетие, необходимо отметить, что растущая дифференциация деятельности образовательных структур привела к возникновению качественно нового состояния — факта автономности данной деятельности. Это означает, что качество самостоятельности деятельности социальных агентов сферы образования трансформировалось «из должного в сущее», «закрепилось» в системе социальных мотиваций и на уровне повседневных социальных практик.
Безусловно, деятельность локальных образовательных институций сопряжена с рядом деструктивных последствий, нивелирующих не только классический, но и неклассический идеалы университета. В то же время сама ситуация лавинообразного нарастания локальных образовательных структур (не только в географическом, но и в организационном, дисциплинарном и иных аспектах) говорит о наличии латентной тенденции, имеющей универсальный (планетарный) характер, тенденции, не вполне отрефлекси-рованной в проектах модернизации российской системы образования.
Исходя из вышеизложенного, дискуссия относительно реформы высшего образования должна быть «развернута» в дополнительной перспективе — с точки зрения интересов и возможных аргументаций локальных образовательных институций и потребителей, которое предпочли их услуги в условиях формирующегося рынка (интересов периферийного образовательного сообщества). Это будет способствовать преодолению од- носторонности «официальной» стратегии, навязывающей регламентирующие каноны идентификации локальным структурам, что противоречит идеалу «неклассического», открытого университета, соответствующего социальному проекту пост-современности.
Список литературы Идеал «классического университета» и направления его трансформации в условиях реформы высшего образования
- Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2003. С. 447.
- Кузьминов Я. Образование и реформа//Отечественные записки. 2002. № 1.
- Афанасьев Ю. Образовательная антиутопия//Отечественные записки. 2002. № 1. С. 47.
- Кьосев А. Университет между фактами и нормами//Отечественные записки. 2002. № 2 (3). С. 97.
- Согомонов А. Назад в университет!//Отечественные записки. 2002. № 2 (3). С. 106.