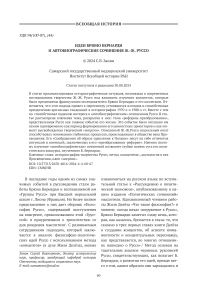Идеи Брюно Бернарди и автобиографические сочинения Ж.-Ж. Руссо
Бесплатный доступ
В статье проанализирована историографическая ситуация, возникшая в современных исследованиях творчества Ж.-Ж. Руссо под влиянием изучения концептов, которые были предложены французским исследователем Брюно Бернарди и его коллегами. Отмечается, что этот подход привел к пересмотру устоявшихся взглядов и способствовал преодолению кризисных тенденций в историографии 1970-х и 1980-х гг. Вместе с тем он способствовал падению интереса к «автобиографическим» сочинениям Руссо. В статье рассмотрена ключевая тема, раскрытая в них: тема «реформы-преобразования», представленная Руссо как главное событие его жизни. Это событие было осознано им самим одновременно как период формирования его ценностных ориентиров и как момент высвобождения творческой «энергии». Описанный Ж.-Ж.Руссо социальный опыт способствовал пониманию глубинных процессов, происходивших в обществе века Просвещения. Его «Соображения об образе правления в Польше» несут на себе отпечаток интуиций и интенций, заключенных в его «преобразовании-реформе». Именно поэтому изучение «автобиографических» сочинений позволяет глубже понять суть его политического дискурса, изученного Б. Бернарди.
Историография творчества руссо, метод «концептов», аксиология в век просвещения, идея «энергии»
Короткий адрес: https://sciup.org/148330850
IDR: 148330850 | УДК: 94(100-87), | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-4-60-67
Текст научной статьи Идеи Брюно Бернарди и автобиографические сочинения Ж.-Ж. Руссо
EDN: CMNJHB
В последние годы одним из самых значимых событий в руссоведении стали работы Брюно Бернарди и возглавляемой им «Группы Руссо» при Высшей нормальной школе г. Лиона (Франция). Но более полное представление о них дает сборник «Философия Руссо», содержащий выступления на конгрессе, организованном этой «Группой» и приуроченном к трехсотлетию со дня рождения мыслителя1. С развиваемым сотрудниками подходом, который заключается в анализе философско-политических идей Руссо с использованием метода «концептов» (в духе Жиля Делёза), можно
Занин Сергей Викторович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Отечества, медицины и социальных наук.
ознакомиться на русском языке по вступительной статье к «Рассуждению о политической экономии», опубликованному в нашем издании «Политических сочинений» мыслителя. Вдохновленный чтением работы Жиля Делёза «Что такое философия?» в момент, «когда начал погружение в Руссо», Брюно Бернарди заметил «одну вещь, которая, как казалось, бросается в глаза: то, что сказано в трех первых главах книги Делёза о создании концептов, об аспекте имманентности и концептуальных персонажах, как представляется, во многих отношениях написано о Руссо».2 Метод основан на тщательном анализе черновых рукописей Руссо, свидетельствующих, как полагает Б. Бернарди, о развитии его идей, прежде всего о том, каким образом они зарождались и развивались. Проще говоря, варианты рукописи отражают не просто процесс редактирования текста в узком смысле слова, но являются творческой лабораторией, где работа над фразой подчинена движению мысли в направлении создания концепта. Но неоднократно, печатно и в устных беседах, нам приходилось дискутировать с ним о достоинствах и недостатках этого подхода. Нам казалось, что, несмотря на все достоинства метода «концептов», вопрос о роли мотиваций и интуиций Руссо в их создании остается открытым. К примеру, почему в процессе работы над «Рассуждением о политической экономии» Руссо взялся критиковать статью «Естественное право» Дидро, которую тот поместил в «Энциклопедии»? Исходя из анализа Б. Бернарди понятно, как развивалась эта критика, но непонятно, что побудило Руссо в 1754 г., когда о личных и философских разногласиях с Дидро не было и речи, не оставить и камня на камне от концепции «общей воли», созданной его тогдашним другом?
Ранее мы уже отмечали, что историография второй половины ХХ в. переживает определенный методологический кризис, связанный с тем, что неомарксистские, психоаналитические подходы, да и в целом установка на междисциплинарность, в свое время в полной мере способствовавшие обновлению предметной области исследований, в определенный момент стали ее ограничивать. Действительно, появление работ Б. Бернарди во многом объясняется тем, что увлечение историографии неомарксистскими, психоаналитическими и отчасти экзистенциалистскими концепциями – во многом дань интеллектуальной моде того времени – привело к известному забвению того обстоятельства, что политическое учение Руссо это, главным образом политический дискурс, а его выработка подчинена, так сказать, «законам жанра»3. Поэтому, как это часто случается в историографии, все то, что невозможно объяснить с точки зрения названных подходов, оказывалось вне поля зрения исследователей. Именно на это и обратил внимание Б. Бернарди. Упрощенное толкование получили и «автобиографические» сочинения, которые так или иначе стали рассматривать то в виде некоего «комментария» к идейным спорам Руссо с философами Просвещения, то в виде повествования о «человеческой природе» и жизни «естественного человека» его самого в мире отчуждения, а подчас и как некий исходный материал для психоаналитического исследования. Но ведь «Исповедь» – это «исповедь в строгом смысле этого слова» (Руссо), а не интеллектуальная автобиография и не трактат о человеке, а уж тем более не дневник наблюдений над самим собой.
Вместе с тем определенные ограничения налагает и подход, развиваемый Б. Бернарди, поскольку любой политический дискурс развивается его носителем исходя из интуиций, интенций, отношения к приобретенному социальному опыту и пр. Именно так называемые «автобиографические» сочинения Руссо после нескольких десятилетий известного забвения исследователями сегодня и после работ Б. Бернарди представляются важными с точки зрения понимания философского наследия Руссо в целом и его политических концепций в особенности. Их прочтение наводит на мысль о том, что его идейное развитие во многом определялось тем, как изначальная интуиция, чувство и, если угодно, экзистенциальное переживание под влиянием обстоятельств жизни прояснялось, оформлялось в убеждение и, напротив, жизнь в соответствии с выработанными убеждениями порождала новые интуиции, новый круг мыслей и чувств, новые оценки действительности и новые концепции.
В свете этих и иных споров, которые ведутся в современной историографии, представляется целесообразным еще раз затронуть тему перспектив изучения творчества Руссо, автобиографических сочинений в частности, то есть «Исповеди», Диалогов «Руссо – судья Жан-Жака» и «Прогулок одинокого мечтателя». По нашему мнению, обращаясь сегодня к «Исповеди» и ав- тобиографическим сочинениям Руссо, следовало бы сосредоточиться на внутреннем анализе той тематики, которая является в них сквозной. Конечно, в рамках статьи невозможно провести подобное исследование в полной мере, однако один сюжет, с нашей точки зрения, заслуживает особого внимания.
Для того, чтобы человек стал жить в обществе, потребовался «переворот-революция», о котором речь идет в «Рассуждении о неравенстве». А для того, чтобы Жан-Жак стал тем, кем он был на протяжении шести лет, пока он менял свою жизнь и приводил ее в соответствие с убеждениями, потребовалась «преобразование-реформа», которая, в силу особенностей его «склада души» и «различных посторонних причин», привела к двум «переворотам» (révolutions) в его жизни. Вот истинная цена того мощного всплеска, который он переживал на протяжении шести лет!
Более того, «преобразование-реформа» Руссо в значительной мере стала отрицанием социальных ценностей, принятых в феодальном обществе, и способствовала выработке иных, «близких его сердцу». И близких для людей вообще, ибо в конечном итоге «именно в наилучшем устройстве вещей люди видят ценность хороших поступков».5 Этот конфликт между субъективными предпочтениями и ценностями, принятыми в обществе, занимает в рассказе о «преобразовании-реформе» не меньшее, а, может быть, и большее место, чем рассказ о «преобразовании» Жан-Жака Руссо. Точнее сказать, само это преобразование носило особый характер:
«Я не находил ничего более возвышенного и прекрасного, чем быть свободным и добродетельным, быть выше богатства и людского мнения и быть самодостаточным. Ложный стыд и боязнь быть освистанным мешали мне сперва вести себя согласно этим убеждениям, внезапно и резко порвать с мнениями своего века; но я отныне решительно выразил свою волю и медлил ее исполнить лишь на то время, что потребовалось сопротивлению ее подстегнуть, а ей одержать верх над ними» (кн. VIII). И ранее: «Пламенная любовь ко всему великому, истинному, прекрасному, справедливому, это отвращение ко всякому злу, эта неспособность ненавидеть, вредить и даже желать зла другому, это умиление, это живое и радостное волненье» (кн. VIII). Итак, «преобразование-реформа» стала своего рода «переоценкой всех ценностей», как выразился бы Фридрих Ницше, то есть выработкой тех ценностей, которые были близкими для него, и отрицание тех, которые он считал ложными.
Более того, этот порыв имел и важную подоплеку, связанную с его пониманием той политической ситуации, которая возникла во Франции. Развивая свою мысль о «преобразовании-реформе», он, в частности, писал: «Кроме этой задачи – изобразить нравы и супружескую порядочность [в романе «Юлия, или Новая Элоиза». – С. З.], – задачи, коренным образом связанной со всем общественным устройством, я втайне поставил себе и другую, имеющую в виду общественный мир и согласие, быть может более высокую, более значительную, – во всяком случае в переживаемое нами время. Буря, поднятая «Энциклопедией», не только не улеглась, но была тогда в самом разгаре. Обе партии, устремившиеся друг на друга с величайшей яростью, больше походили на бешеных волков, в ожесточении рвущих на части друг друга, чем на христиан и философов, желающих просветить, убедить и обратить друг друга на путь истины. Той и другой партии недоставало, может быть, только предприимчивых и влиятельных вождей, чтобы борьба между ними превратилась в гражданскую войну; и бог знает, к чему привела бы религиозная гражданская война, в которой жесточайшая нетерпимость была, в сущности, с обеих сторон одинакова». («Исповедь, кн. IX). Этот своеобразный «третий путь», по которому он собирался идти и в конечном итоге пошел также имел отношение к вопросу о ценностях: ценностные ориентиры философов и христианские ценности (в понимании католического клира).
«Предприятие», как известно, закончилось полной катастрофой. Будучи осужденным Парижским парламентом за роман «Эмиль, или о Воспитании», Сенатом Берна и Малым советом (правительством) Женевы, Руссо вынужден был бежать из Франции, Швейцарии, преследуемый, по его собственным словам, как «оборотень» (loup-garou). «И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой жестокий век восславил я Свободу / И милость к падшим призывал»… Но не только. Во второй половине 1760-х гг. он получил приглашение английского философа Дэвида Юма укрыться в Англии от преследований властей. В скором времени Руссо убедился в том, что эта поездка была задумана Юмом и парижскими философами с целью «удалить его из Франции» для того, чтобы без помех заниматься пропагандой собственных философских взглядов. Д’Аламбер принял участие в написании «Краткого изложения» (Exposé succinct, 1766) ссоры Дэвида Юма с Руссо в Англии, а также написал «Похвалу Джорджу Кейту», покровителю Руссо в Нефшатель-ском княжестве, с ядовитыми выпадами против него, а Вольтер выпустил анонимно памфлет под заголовком «Чувства граждан», в котором содержались отвратительные личные нападки на Руссо. Не говоря уж о том, что в ссоре с Дэвидом Юмом парижские философы и их покровители в лице, к примеру, маркизы дю Деффан единодушно признали Руссо «мерзавцем, мошенником, сумасшедшим».6 Одним словом, попытка примирить враждебные «партии» обернулась тем, что обе ополчились против него.
Это стало знаковым событием и для самого Руссо-писателя и философа, и для общества его времени. Провал миссии того, кто взял на себя «тяжкий труд говорить горькие истины людям», привел его к тому, к чему и должен был привести. Ценности, которые он защищал в своих произведениях, оказались невостребованными в обществе его времени, и Руссо-писатель, стремившийся принести пользу людям, публикуя свои произведения, вынужден был удалиться на покой: «Истерзанный, измученный всякого рода бурями, уставший от многолетних переездов и преследований, я остро чувствовал потребность в покое <…> С ужасом глядел я на предстоящие работы и на ожидающую меня беспокойную жизнь, и если величие, красота, полезность предмета пробуждали во мне мужество, то мысль, что я бесплодно пожертвую собой, совершенно отнимала его у меня (кн. XII). Пришлось вернуться в то состояние, где человек пребывал до вступления в общественную жизнь, то есть в состояние «естественное» для него, в состояние «сладостной праздности» (douce oisiveté), в котором и жили люди до образования общества, то есть до того, как «праздность, питающая страсти уступила место работе, их подавляющей» («Опыт о происхождении языков», гл. Х).7 Таков рассказ о судьбе «естественного человека», содержащийся в автобиографических сочинениях. Руссо «замкнулся в себе» (s’est replié sur soi).
И, как нам представляется, причина состояла не только в том, что он столкнулся с «неодолимыми препятствиями», с миром «социального отчуждения». Руссо пришлось стать одиноким, вернуться в своего рода «естественное состояние», которое правильнее было бы охарактеризовать термином «необщественное» (insociable), но в одиночество вынужденное, отличное от того, в пользу которого он сделал свободный выбор в период «нравственной и интеллектуальной реформы», когда поселился в Эрмитаже. На первый взгляд можно говорить о «пассивности его сознания». Оказавшись в одиночестве, он предпочел людскому суду «суд божий» и отказался от «активной свободы».8 Тем более что и сам Руссо писал о том, что «вокруг меня возвели непроницаемые стены… и погребли живым среди живущих». Более осторожно, чем Ж. Старобинский, к привлечению сочинений автобиографического цикла подходил П. Бюржелен, отмечая особенности субъективных переживаний Руссо в поздний период творчества, оказавших влияние на его представление о свободе и счастье9. Известный философ и академик А. Гуйе также отмечал, что, хотя в целом взгляды Руссо не изменились, в поздний период творчества он сознательно делал акцент на «пассивности» своего мировосприятия, «культивировал свое бессилие»10.
Так ли это? «Необходимо в одиночестве беспрерывно искать эту энергию, освобождая ее от земных привязанностей», – отмечал Руссо в письме Софии д’Удето после разрыва с философами в 1758 г. Эта «энергия» поступка человека, «свободного от земных привязанностей», у Руссо и есть жизнь человека во всей ее полноте11. И она проявилась – и неоднократно – тогда Руссо оказался в изгнании, скрываясь от преследований властей, и когда, как полагал Жан Старобинский, он отказался от «активной свободы». Мог ли он не откликнуться на призыв корсиканцев, народа, о котором он писал в «Общественном договоре» как наиболее способном быть свободным, и не попробовать написать проект преобразований на нем? Мог ли он, читая вслух избранной публике самые грустные страницы «Исповеди» весной 1770 г., остаться равнодушным к критическому положению, в котором оказались «храбрые поляки», и не создать одно из лучших своих политических сочинений «Размышления об образе правления в Польше»? Стоит перечитать его переписку с графом Михаилом Виельгорским, эмиссаром Барской конфедерации в Париже и заказчиком этого произведения, чтобы убедиться: новый всплеск «энергии» побудил его взяться за перо. «Мое дарование состоит в том, чтобы говорить людям об истинах су- ровых и полезных, со всей энергией и смелостью», – писал Руссо в «Исповеди» (кн. IX). Но ведь таков и результат его собственного «преобразования-реформы». И именно поэтому он дал совет полякам преобразовать-реформировать (réformer) их жизнь и создать учреждения «столь благоприятные для энергии храбрости и свободы» («Соображения об образе правления в Польше», гл. 9)12. Проповедь этих ценностей – «храбрости» и «свободы» - занимает центральное место в «Соображениях». Ведь неслучайно он признавался, что задачей его политического творчества была попытка «изменить у народов предмет их уважения» и тем самым «замедлить упадок, который они ускоряют своими ложными предпочтениями»13.
Заметим, что энергия у Дидро является «импульсом природы» человека, направленным на «добро или зло», на прекрасное или безобразное14. У Руссо «энергия» трактуется как «освобождение», как «возвышение над собственным темпераментом», влекущим его к «сладостной беззаботности», над общепринятыми правилами и условностями общественной жизни. В конечном итоге не только Жан-Жак способен на это. Герцогиня Мирпуа, прощаясь с ним во время его бегства из Монморанси в июне 1762 г. после осуждения его произведений Парижским парламентом, открыто проявила, несмотря на требования этикета, «естественное сострадание (commisération naturelle), свойственное щедрым сердцам», и в ее движении и взгляде он «обнаружил нечто энергичное» (кн. X). Да и сам «одинокий Жан-Жак», якобы ожидающий «суда божьего» в 1760-х гг., отнюдь не выглядел в глазах его посетителей подавленным и разбитым: «Когда ничто его не омрачало, он выходил из берегов как неукротимый поток, который ничто не могло остановить»15. Согласимся с известным литературоведом Мишелем Делоном в том, что в «автобиографических» сочинениях мыслителя прослеживается и центробежное, и центростремительное движение, любовь к «сладостной праздности» и желание обрести славу в по- томстве, «встать вровень со своим веком» (Руссо). Но в его поступках заметно «преодоление себя», всплеск «энергии». 16 Речь идет об энергии освобождения, энергии преодоления «дуализма» души и тела, который он в полной мере испытал в период любовного увлечения Софией д’Удето. В свете сказанного есть смысл задуматься над тем, почему именно философские взгляды Руссо, а не монистический материализм Гельвеция, Дидро и Гольбаха в наибольшей мере несли в себе заряд обновления социальных и культурных отношений. И сегодня эту концепцию высвобождения энергии природы человека нельзя игнорировать при изучении не только литературы эпохи Просвещения, но и культурных истоков Французской революции в той мере, в какой ее ораторы призывали мобилизовать «энергию» нации, понимая под этим термином «твердость и энергию-стойкость (énergie)»17.
Сегодня изучение политической концепции Руссо с точки зрения логики создания концептов, предлагаемое Б. Бернарди и его сотрудниками, очевидным образом нуждается в дополнении с учетом данных «автобиографических сочинений». Выдающийся специалист в области изучения творчества Руссо Жан Старобинский как-то заметил, что в них мыслитель «переносил на жизнь общества темы из мифологии своей собственной личности».18 Но более внимательное прочтение его «автобиографических» сочинений указывает не на это, а на глубокую рефлексию над собственным опытом, приобретенным в социальной и культурной среде его времени, результатом которой стал дискурс об «энергии» преодоления и об аксиологическом выборе как знамении времени, важном как для человека, так и для общества его времени. Поэтому, несмотря на безусловную плодотворность подхода Б. Бернарди, подтверждаемого выдающимися результатами как в области текстологической работы, так и в области создания исследовательского комментария, сегодня особенно важно подчеркнуть значимость интуиций и ин- тенций Руссо, которые, к примеру, в таких произведениях, как «Проект конституции для Корсики» или «Соображения об образе правления в Польше», получили свое воплощение в политических концепциях наряду с теми идеями, которые вытекают из политического дискурса в «Рассуждении о неравенстве» и в трактате «Об общественном договоре».