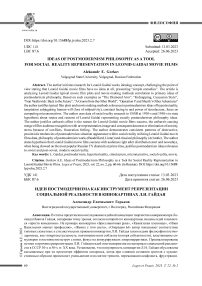Идеи постмодернизма как инструмент репрезентации социальной реальности в кинокартинах Л.И. Гайдая
Автор: Горьков А.Е.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлено исследование идейной концепции творчества кинорежиссера Леонида Иовича Гайдая, оспаривая точку зрения, согласно которой его кинокартины лишены идей и являются «просто комедиями». На примере кинокартин «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Жених с того света», «Операция Ы» автор показывает соответствие типовых сюжетных и стилистических приемов кинокартин Л.И. Гайдая таким идеям философии постмодернизма, как гипертекстуальность, подчинение воли соблазну (потеря субъектности), властвование симулякров и постоянство встреч с ними, фокус на конкурирующих микронарративах. Проанализированы истоки и причины репрезентации Л.И. Гайдаем идей постмодернизма на материале социальной реальности в СССР 30-х и 50-х гг. ХХ века. Установлено, что популярность кинокартин Л.И. Гайдая обусловлена вызываемым при их просмотре эффектом катарсиса, когда при слиянии сознания зрителя с художественным образом происходит уменьшение или снятие тревоги, переживания конфликта, фрустрации. На приведенном материале из кинокартин Л.И. Гайдая и текстов представителей постмодернизма (Бодрийяр, Лиотар) показана закономерность разрушительных, вызывающих пессимизм тенденций проявления ситуации постмодерна в социальной реальности. Делается вывод о том, что популярность кинокартин Л.И. Гайдая как сразу после их выхода на большой экран, так и в настоящее время (эти картины демонстрируются по центральным телеканалам в праздничные и выходные дни) свидетельствует об актуальности идей постмодернизма как в советской, так и в постсоветской, современной социальной реальности.
Л. гайдай, постмодернизм, гипертекстуальность, симулякр, микронарративы, социальная реальность, кино
Короткий адрес: https://sciup.org/149143169
IDR: 149143169 | УДК: 141 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2023.2.7
Текст научной статьи Идеи постмодернизма как инструмент репрезентации социальной реальности в кинокартинах Л.И. Гайдая
DOI:
Цитирование. Горьков А. Е. Идеи постмодернизма как инструмент репрезентации социальной реальности в кинокартинах Л.И. Гайдая // Logos et Praxis. – 2023. – Т. 22, № 2. – С. 60–66. – DOI: 10.15688/
Творчество Л.И. Гайдая получило оглушительный успех и признание сразу после выхода в широкий прокат, о чем свидетельствует, например, то, что фильм «Бриллиантовая рука» занимает третье место среди всех комедий, выпущенных в СССР, по количеству просмотревших ее в первый год проката зрителей. В настоящее время фильмы Гайдая ставятся в программу популярных российских телевизионных каналов во время выходных и праздничных дней (например, в праздничные дни Нового года). Таким образом, кинофильмы Леонида Иовича являются одним из центральных явлений советской и постсоветской культуры. Вместе с тем публикации, анализирующие идеи этих картин, немногочисленны. И, пожалуй, только С.Р. Демьяненко в статье от 2013 г. [Демьяненко 2013, 117] делает попытку описания некоторых идей, характерных для фильмов Гайдая, и соотнесения этих идей с научной философской традицией. В биографических работах распространено мнение, что никакой особой концепции, связанной системы идей, в творениях Л.И. Гайдая и вовсе нет. Например, биограф Гайдая Евгений Новицкий пишет: «Он никогда не прикрывался фразами вроде того, что он снимает «лирическую комедию», или «философскую комедию», или еще какую-то… наоборот, он старательно напоминал снова и снова, что снимает «просто комедию» [Новицкий 2017, 325].
Если встать на такую точку зрения, то как тогда можно объяснить, что большинству киноработ Гайдая сопутствовал успех в прокате? Ведь четыре его комедии входят в двадцатку абсолютных лидеров кинопроката за всю историю СССР, причем в четверку лидеров наряду с упоминавшейся уже «Бриллиан- товой рукой» входят еще и «Кавказская пленница», занимая как раз четвертое место [Новицкий 2017, 2]. Неужели миллионы зрителей, пересматривающих, например, «Иван Васильевич меняет профессию», видят только набор старых гэгов, и смеются над неуместными положениями тел и неожиданными звуками? Напротив, уместно сделать предположение, что идейная концепция все-таки есть, но она сложна, оригинальна. Возможно, автор предпочел намеренно скрыть тот набор идей, который положил в основу своего творчества, спрятав его, например, от государственной цензуры того времени. Чтобы разобраться в этом мы предлагаем выделить своеобразные художественные приемы, используемые Л. И. Гайдаем при создании своих фильмов на примере фильма «Бриллиантовая рука» и других кинокартин.
Характерной чертой творчества Леонида Гайдая является особое внимание к текстам. Еще с первого фильма – «Жених с того света» (1958) – режиссер использует и специальные эффекты оформления текстов в титрах состава съемочной группы, и комичную абсурдность наименований советских организаций: «Райпиявка при Горпиявке», «Горупр-местпром Заготлыко», «НИИ ГУГУ», «Гип-ропиво». В одном из таких учреждений, а именно в «Гипрорыбе», работает и Семен Семенович Горбунков главный герой «Бриллиантовой руки». Текст титров сообщает нам, что первая часть «киноромана», снятого «полускрытой камерой», называется «Бриллиант почти не виден», а вторая – «Костяная нога».
В центр сюжета фильма «Бриллиантовая рука» помещена борьба за драгоценности, соблазнительно сверкающие и в сценах наложения гипса с бриллиантами на руку главного героя, и ранее, когда «шеф» якобы случайно находит клад, и даже падает в обморок от наплыва чувств, и в сцене с оплатой услуг «роковой блондинки» в исполнении Светланы Светличной через передачу золотого браслета с руки на руку. Можно утверждать, что в центре фильма стоит идея соблазна, искушения. Соблазн и подчинение воли сопровождают Семена Семеновича Горбункова, сыгранного Юрием Никулиным, весь фильм, начиная с круиза по капиталистическим странам, и является центральной идеей сюжетной линии. Соблазнительны и красотка на одной из узких улочек знойного города, и кока-кола, о которой на родине обязательно спросит жена в исполнении Нины Гребешковой, и поездка на рыбалку на Черные камни, и поход в ресторан с целью отпраздновать получение премии другом Гешей. Сильным соблазном выступает блондинка в халатике в отеле «Атлантик», и накал воздействия на волю Горбункова достигает такой интенсивности, что при назначении этого свидания он начинает слышать что-то вроде звука натянутой, и грозящей порваться струны, символизирующей, как и в пьесах А.П. Чехова, гибель. Впрочем, соблазняются и другие персонажи кинокартины. Например, Варвара Сергеевна Плющ, в исполнении Нонны Мордюковой, не может устоять перед искушением немедленно открыть иноземную шкатулку, откуда на нее тут же выбрасывается игрушечный чертенок. А «старший лейтенант милиции Михал Иваныч» не может не соблазниться проведением формальной проверки героя Никулина с помощью казенного вопроса об участии в самодеятельности.
Ж. Бодрийяр назвал один из своих трудов «Соблазн». В этом труде Бодрийяр пишет, что «Соблазнять – значить умирать как реальность и рождаться в виде приманки. При этом попадаются на собственную приманку – и попадают в зачарованный мир» [Бодрийяр 2000, 131]. И, действительно, рука в гипсе с бриллиантами по сюжету фильма перестает быть таковой, и превращается в приманку для тех, кто убедил себя в ее существовании.
А что же такое сама «бриллиантовая рука», вынесенная в заголовок картины? Это рука, на которую наложен гипс для того, чтобы показать перелом кости, которого нет. А этот гипс на самом деле нужен для того, чтобы спрятать драгоценности, но их тоже нет. Потому что по сюжету власти удаляют их из гипса вскоре после того, как главный герой делает сообщение о контрабанде. То есть нет ни перелома, ни драгоценностей, а есть только здоровая рука и гипс – такой вот двойной обман. Важно отметить, что эффект от гипса, наложенного на здоровую руку, совсем не ограничивается двойной природой обмана, потому что по ходу кинокартины этому объекту присваивается еще один ряд придуманных свойств, а именно: выдвигается гипотеза о наличии не закрытого, а открытого перелома. Таким образом «бриллиантовая рука» из заголовка кинокартины – это постмодернистская «копия без оригинала», модель без соответствующего явления, и по этим основаниям относится к симулякрам в полном соответствии с концепцией классика философии постмодернизма Ж. Бодрийяра. Такими же симулякрами являются, например, «лошадь без крыльев» и «такой же халатик, но с перламутровыми пуговицами», которые Горбунков ищет при хождении по комиссионным магазинам. Симулякром является объявленная, но никогда не прочитанная Семеном Семеновичем лекция «Париж – город контрастов», без усилий переименованная по случаю в «Стамбул – город контрастов».
Из вышеописанного можно выделить в качестве характерных идей режиссера Гайдая: гипертекстуальность, идею соблазна, властвование симулякров, и постоянство встреч с ними. Все это идеи философии постмодернизма. Например, классик постмодернизма Ж. Деррида пишет, что «внетекстовой реальности не существует» [Деррида 2000, 313]. Что, наряду с другими трудами этого автора, дает основание ученым философам утверждать, что Деррида «предполагает, что реальность, так же как и истина, – это своего рода иллюзия, за которой скрывается текст, то есть совокупность знаков, символов и множества равноценных, взаимозаменяемых смыслов» [Пигалев 2017, 7].
Про схожесть заглавия самой популярной картины Гайдая с симулякром уже упомянуто выше, и эта схожесть тоже обосновывает гипотезу о том, что Гайдай репрезен-тует идеи постмодернизма в своих фильмах. Однако не совпадения ли все это? Какой при- знак состояния постмодерна выделяется в качестве основного самыми первыми исследователями этого явления, и можно ли обнаружить этот признак в «Бриллиантовой руке» и других киноработах Л.И. Гайдая?
Если посмотреть под этим углом зрения на развитие сюжета, неразрывно связанного с приключениями главного персонажа «Бриллиантовой руки» Семена Семеновича Горбункова, который неожиданно для себя, и совершенно безнадежно, оказывается в гуще событий только потому, что гипс не может «поносить кто-нибудь другой», то можно заметить, что Семен Семенович оказывается замешан в набор повторяющихся эпизодов конкуренции двух организаций. Первая, которую можно назвать «наступательной» представлена контрабандистами, а именно Шефом, Геннадий Петровичем Козодоевым (Гешей) и Леликом. Вторая, которую можно назвать «охранительной» – главным образом полковником милиции, старшим лейтенантом Михаил Ивановичем, и управдомом Варварой Сергеевной Плющ. Семена Семеновича включают в серию микро противоборств, и до какого-то момента он безвольно следует всем опасным поворотам. Главные эпизоды хорошо известны любителям творчества Гайдая: рыбалка на черных камнях, празднование премии в ресторане «Плакучая ива» (Гайдай не отказал себе в удовольствие и здесь обыграть текст таким образом, что неоновое освещение буквы «П» в названии ресторана в кадре сломано, и название превращается в «Лаку-чая ива»). Мы не считаем нужным специально останавливаться на рассмотрении содержания этого противоборства. Это может быть сделано в следующих работах при появлении соответствующего научного интереса. Для раскрытия темы данной работы важно отметить, что пассивная, бессубъектная роль в борьбе «наступательной» и «охранительной» организаций доводит главного героя до краха семейного жизненного уклада. Наступившую гибель жизненного уклада Семена Семеновича символизирует уход жены и детей, комично замещает которых старший лейтенант милиции, готовящий казенный омлет на кухне семейного гнездышка. Он заодно готовит и очередное информационное послание Горбункову в рамках только набирающей, и, похоже, подчиняющейся только своей внутренней логике, борьбы. Для убедительности концепции этой статьи нужно заметить, что форменный стиль кинокартины в этом отрывке приходит к форменному стилю классических произведений шпионского триллера времен холодной войны, в которых объединенные идеологической общностью агенты готовят свидетелям завтрак у них же на кухне, и затем случайная «пешка» отправляется на самые опасные задания «втемную».
Фокус на локальной конкуренции микронарративов, потеря субъектности, сила симулякров фигурируют и в других сюжетах, отобранных Гайдаем для своих фильмов. Например, в новелле «Операция Ы» сюжет строит- ся вокруг симуляции ограбления («Все уже украдено до нас»). Герои по воле многочисленных случайных, но влиятельных системных факторов ввязываются в противостояние, в котором нет победителя. В фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» в наименовании использован характерный для постмодернистских произведений прием цитирования классических текстов, а сюжет построен на противостоянии носителей традиционного кавказского и модернистского научного сознания (Шурик приезжает с научной целью изучать фольклор). Симулякрами в этом фильме представлены, например, «кунаки влюбленного джигита» в исполнении Вицина (у него крутится шея на 360 градусов), Никулина (прикуривает от газырей как автомобильного прикуривателя) и Моргунова. Замечательно, что, как в Бриллиантовой руке показан разговор аптекарей после осознания ошибки с гипсом, переведенный как «игра слов с включением местных идиоматических выражений», так и здесь также показан разговор с использованием абсурдного, выдуманного, ничего не значащего языка: в той же сцене с кунаками и навязыванием Шурику роли в похищении невесты звучит «Бамбар-бия! Киргуду!» от героя Никулина. Впрочем, тот же постмодернистский прием использован и в фильме Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», когда режиссер Якин лепечет: «паки, паки, иже херувимы». В этом фильме также волей эффекта технического прогресса герои забрасываются в идеологически чуждое им социальное окружение, и втягиваются в локальные комические противоборства и симуляции. В этой картине герой Этуша настойчиво симулирует «три куртки кожаные, три видеокамеры, три магнитофона», а, например, герой Куравлева – «повешенного третьего дня на собственных воротах» князя Милославского. Волей технического прогресса же действующие лица картины возвращаются к исходному status quo.
Возвращаясь к «Бриллиантовой руке», нужно отметить странность финала картины, где обездвиженного Горбункова, совсем как какой-то ящик, грузят краном на твердую почву. Странным показался финал и принимающей картине комиссии Госкино, потому что в конце фильма они увидели не что иное, как ядерный взрыв! Что же значит ядерный взрыв в конце фильма, и почему картина с такой концовкой так притягательна для просмотра? «Когда председатель Госкино Романов смотрел картину, то где-то смеялся, где-то нет (человек он был довольно своеобразный), но в конце, когда увидел атомный взрыв, чуть не в обморок упал. И стал кричать: «Леонид Иович, ну атомный взрыв-то при чем?» Гайдай мрачно, опустив голову, сказал: «Это надо, чтобы показать всю сложность нашего времени»» [Новицкий 2017, 277]. Понятно, что сложность процессов состояния постмодерна требует особых приемов их репрезентации, и потому стиль постмодернистского искусства, – необычный стиль.
Зачем это? В ответ на вопрос своей жены о том, зачем снимать столько комедий Гайдай отвечал: «Люди ведь так плохо живут – пускай хоть в кино посмеются» [Новицкий 2017, 84]. Со времен древнегреческого театра самым мощным эффектом воздействия произведения искусства на человека считается катарсис, очищение, которое происходит при узнавании и сопереживании происходящего на сцене как происходящего в сознании, в жизни самого зрителя. Психология говорит нам о том, что при таком слиянии персонажа и зрителя, сопереживании и последующем выходе эмоций происходит уменьшение или снятие тревоги, переживания конфликта, фрустрации. Разве не эти состояния испытывает главный герой, обычный человек современного Гайдаю общества, на протяжении всей картины? Разве не эти состояния так характерны для нашей жизни в современном нам обществе, которому не без основания присваивается наименование постмодернистского?
Встает вопрос, из каких источников мог Леонид Иович почерпнуть идеи и приемы постмодернистского искусства. Во-первых, из самой своей жизни. Воспитанный в советские тридцатые, под воздействием метанарратива, в котором «Для мальчишек и девчонок того времени мир делился только на “белых” и “красных”. Нам и в голову не приходило раздумывать, на чьей быть стороне. В этом красном мире жили и совершали подвиги полярные исследователи, челюскинцы, папанинцы» [Фицпатрик 2008, 86]. Леонид Ивович затем прошел через жестокость и натуралистич- ность ужасов Великой Отечественной войны в составе пешей разведки, и вернулся домой с ранением и медалью «За боевые заслуги». Гайдай, как и весь советский народ столкнулся с реальностью послевоенной жизни в СССР, когда противоречия в социальном развитии (конфискационная денежная реформа, репрессии по отношению к военнослужащим и другие) наглядно показали, что общество всеобщего благоденствия, или хотя бы равенства не удалось добиться даже ценой героической и жертвенной победы над фашистской Германией. Леонид Иович, начинавший в родном Иркутске как актер, наверняка чутко понимал жизненную ситуацию краха веры в модернизационный проект простых людей тех лет, входящей в противоречие с инерцией идеологической машины советского общества.
Во-вторых, не было недостатка в свидетельствах кризиса идеи советского модерна и на страницах газет. Если в 30-е гг. по свидетельству исследователей «советское мировоззрение и не было в буквальном смысле слова единственным, известным русским людям в 1930-е гг., то оно все же было единственным, связанным с современностью. Был или не был советский режим легитимен для широких слоев населения, но его модернизующая (цивилизующая) миссия, по всей очевидности, была» [Фицпатрик 2008, 269]. То к 60-м гг. советский модернистский проект явно потерял стройность и монополию на истину, а для некоторых людей и легитимность. Например, в 1961 г. даже в центральной прессе СССР громко освещалось дело валютных фарцовщиков Рокотова и Фай-бишенко. Эти советские граждане путем нехитрых операций товарного обмена с иностранцами и игры на официальном и неофициальном курсе иностранных валют сумели сколотить личное состояние, составлявшее более одного миллиона долларов США. Так в СССР появились нелегальные долларовые миллионеры, что вполне перекликается с сюжетом «Бриллиантовой руки». В полном соответствии с положениями концепции постмодерна Рокотов одновременно числился секретным сотрудником милиции, и ловко лавировал между одной и другой идеологическими системами для собственной выгоды.
Сцена ядерного взрыва в финале фильма «Бриллиантовая рука» была вырезана цен- зурой, и в прокат фильм пошел без нее. А вот в программной книге «Симуляции и симулякры» классик описания ситуации постмодерна Ж. Бодрийяр много пишет о ядерном взрыве, как закономерном итоге постмодернистских процессов, и предрекает последующее существование реальности в виде пустыни.
Почему философы постмодернизма обычно пессимистичны? Тревога, системное столкновение с абсурдными конфликтами, фрустрации сопровождают и многих героев фильмов Гайдая и современных людей потому, что, как писал Аристотель в самом начале «Метафизики»: «Все люди по природе стремятся к знанию…» [Аристотель 2006, 28]. Это стремление создает системный, экзистенциальный конфликт человеческого сознания с обществом в состоянии постмодерна, важнейшим признаком которого является недоверие к метанарративам, которые знание и легитимируют. Именно поэтому Ж. Бодрийяр в ответ на вопросы, как же он живет в описанной им реальности постмодерна, отвечал в том духе, что не имеет с ней ничего общего (буквально: «I dont recognize myself in all this…» [Gane (ed.) 1993, 23]. Одним из способов преодоления этих конфликтов может быть творческая рефлексия, и осмысливание происходящих процессов отстраненно, воплощая рефлексию и мысли в произведения искусства. Возможно, такую цель преследовал Л.И. Гайдай, репрезентируя явления советской культуре в духе идей постмодерна в своих кинокартинах.
Список литературы Идеи постмодернизма как инструмент репрезентации социальной реальности в кинокартинах Л.И. Гайдая
- Аристотель 2006 - Аристотель. Метафизика. М.: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2006.
- Бодрийяр 2000 - Бодрийяр Ж. Соблазн. М.: Ad Marginem, 2000.
- Демьяненко 2013 - Демьяненко С.Р. Феноменология юмора в творчестве Л.И. Гайдая в контексте инкорпорации ультралимитированной проблематики в социально-культурное пространство СССР 60-х гг. XX в. // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2013. № 3 (35). С. 117-122.
- Деррида 2000 - Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000.
- Лиотар 2016 - Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 2016.
- Новицкий 2017 - Новицкий Е. Леонид Гайдай. М.: Мол. гвардия, 2017.
- Пигалев 2017 - Пигалев С.А. Философские основания постмодернистского понимания человека // Logos et Praxis. 2017. Т. 16, № 2. С. 6-15.
- Скворцов 2007 - Скворцов Л.В. Постмодернизм как явление культуры // Россия и современный мир. 2007. № 3. С. 58-82.
- Фицпатрик 2008 - Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы. М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН): Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008.
- Gane M. (ed.) 1993 - Gane M. (ed.). Baudrillard Live. Selected Interviews. L.: Routledge, 1993.