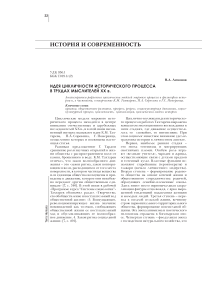Идея цикличности исторического процесса в трудах мыслителей ХХ в
Автор: Лимонов Владимир Андреевич
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: История и современность
Статья в выпуске: 1 (14), 2010 года.
Бесплатный доступ
Анализируется рефлексия циклических моделей мирового процесса в философии истории и, в частности, в творчестве К.М. Тахтарева, П.А. Сорокина и Г.С. Померанца.
Архаика, общественное развитие, прогресс, регресс, социокультурная динамика, социокультурный процесс, цикличность, цивилизация, циклическая модель истории
Короткий адрес: https://sciup.org/14031102
IDR: 14031102 | УДК: 930.1
Текст научной статьи Идея цикличности исторического процесса в трудах мыслителей ХХ в
Terra Humana
Циклические модели мирового исторического процесса находятся в центре внимания отечественных и зарубежных исследователей ХХ в., и в этой связи несомненный интерес вызывают идеи К.М. Тах-тарева, П.А. Сорокина, Г. Померанца, осмыслению которых и посвящена настоящая статья.
Развивая предложенное Г. Тардом сравнение роли научных открытий в жизни общества с распространением волн от камня, брошенного в воду, К.М. Тахтарев отмечал, что закон волнообразного движения – это «закон ритма, закон повторяющихся волн, расходящихся от того места поверхности, в котором частицы вещества или единицы общества возмущены и приведены в движение, которое они неизбежно передают другим общественным единицам» [7, с. 340]. В этой связи в рабочей «Программе курса “Системы социологии”» Тахтарев обозначил раздел «Творчество, его обобществление и поступательный ход общественной жизни»: «3. Возмущающее, революционизирующее жизнь значение нововведений как толчков, сообщающих общественной жизни ее поступательный ход и обусловливающих ее волнообразное движение. 4. Закон ритма социальной жизни» [7, с. 491].
Циклично-волновая идея исторического процесса в работах Тахтарева выражена концептом эволюционного восхождения в пяти стадиях, где движение осуществлялось то спокойно, то интенсивно. При этом социолог известное внимание уделял трактовке истории в личностном аспекте.
Первая, наиболее ранняя стадия – это эпоха тотемизма и мигрирующих охотничьих племен. Особую роль играют «великие учителя», чародеи и жрецы, осуществляющие связи с духами предков и тотемный культ. Властные функции исполняют старейшины (геронтократы) и главари (начало личностного лидерства). Вторая ступень – формирование родового общества на основе кочевой жизни и общественного сотрудничества родичей, образующих семейно-племенные союзы. Здесь имеет место первоначальная сакрализация фигуры отца-вождя, с ярко выраженной тенденцией подавления женщин и молодых людей. Третья ступень – переход к оседлой сельской жизни, вечевому строю первоначального территориального общества, формирование поземельной общины. Эта эпоха анимизма и поэтического гилозоизма отражена в богатырском эпосе. Четвертая ступень – феодальная эпоха с господством натурального хозяйства, это время интенсивного роста городов и развития ремесел, торговли, менового хозяйства и формирования сословного общества. Выделяются героические личности в качестве субъектов героического эпоса, а затем и святые – герои агиографической литературы. Пятая стадия – эпоха развитого классового общества, время прогресса городской цивилизации, промышленности, стадия создания крупного капитала. Усложнению общественных структур в рамках гражданского общества в эту эпоху отвечает развитие политической свободы, демократии, расцвет наук и искусств, усложнение личностной религиозной жизни, рождение «я» в разнообразных формах индивидуализма [7, с. 302–319].
Такова внешне нехитрая схема общественного развития, представленная К.М. Тахтаревым. Его концепция близка сходным построениям народников П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского, как очевидно и ее родство формационной теории К. Маркса, которого Тахтарев назвал Ньютоном общественных наук, хоть и «до известной степени» [3, с. 35].
Отмечая некоторую упрощенность построений Тахтарева, стоит отметить его внимание к судьбе нарождающейся творческой личности, присутствие которой он – в нарушение исторической правды – фиксирует на всех этапах эволюции. С другой стороны, достаточно любопытно следующее утверждение: вопреки распространенному среди историков и социологов убеждению о том, что понятие закономерности явлений пришло в обществоведение из естественных наук, дело обстоит как раз наоборот – именно из теории общества формула закона перенесена в естественные науки.
С нашей точки зрения, чтобы еще более уверенно чувствовать себя в логике циклично-волновой теории, Тахтарев устанавливает широкий спектр повторяемости явлений исторической жизни в двух аспектах: 1) методологическом – наука, желающая обобщать факты, не может иметь дело с уникальными событиями; 2) имманентно-креативном: повторы в истории не бывают буквальными, они носят творческий характер и вносят в мир новизну небывалого: «Мы всюду видим изменение и обновление жизни, которая всегда и всюду как бы заново творится, воспроизводится и обновляется в определенных формах. Об этом говорит <…> как воспроизведение различных кристаллических форм <….>, так и воспроизведение различных растений и животных, а равно и определенных общественных форм и форм. Тайна существования всех этих форм заключается в известной повторяемости соответствующих явлений» [7, с. 353].
Всё в этом тезисе достаточно убедительно, за исключением одного. В тиражирующей себя природе нет никакой тайны (если пренебречь редкими мутациями): для наблюдателя она живет механизмами простейшей редупликации. Все запасы креативного «повтора/новизны» отданы человечеству. Тахтарев показал широкую панораму повторяемых явлений – в области экономической, брачной и семейной жизни; психической и нравственной жизни (на примерах истории моды и зрелищных искусств); в сфере умственной жизни;
на уровне религиозного мироотношения, в истории ротации властных структур, типов государственного общежития и политических платформ. И все же ни один народ не переживает установленную социологом пятирицу в полном объеме и непременно в заданной последовательности, хотя в исторической жизни всего человечества «мы наблюдаем очевидную повторяемость этих явлений или их форм до тех пор, пока все человеческие общества не переживут только что перечисленных ступеней своего развития» [7, с. 365].
Таким образом, позитивистская закваска, на которой возрастал Тахтарев как ученый, сказалась на обилии в его социологии механицистских стереотипов в духе старинной просветительской историографии. Его трактат 1922 г. так и называется «Общество и его механизмы». Но, справедливости ради, необходимо сказать, что эти идущие от XVII–XVIII вв. «механи-цизмы» отчасти компенсируются организ-мическими метафорами роста, цветения и увядания. Здесь выделены три принципа (и соответственно – три генеральных объекта) социологического изучения общественной жизни: 1) социум выявляет максимум своих возможностей, когда он переживает стадию «самодостаточности»; 2) в категориях обычая и обыденных верований фиксируется разнообразие ритуально-ролевого поведения коллективов, их самоорганизация в поведенческую однородность; 3) люди движимы простыми потребностями выживания, их следует классифицировать и изучать. Эта объектная триада определяет условия и социальные детерминанты общественно-исторических циклов, что выражено, например, в одном из заголовков: «Относительная
Общество
общественная самодостаточность как необходимое условие возникновения, существования и исчезновения любой формы человеческого общества» [7, с. 531].
В первой половине ХХ в. социология и теория культуры нуждались в решительном обновлении научного аппарата, а также в переосмыслении социальной онтологии как таковой. Это предстояло сделать П.А. Сорокину, который не обошел вниманием и циклическую идею исторического процесса.
В своих трудах Сорокин уточняет диалектику «уникальности/повторяемости» в историческом процессе: уникальны лишь
Terra Humana
человеческие единицы, но процессуально они тиражируются. Процесс «достигает своей “точки насыщения”» и идет вспять (вера ↔ безверие, стабильность ↔ мятеж). Формула Сорокина амбивалентна: «Социокультурная жизнь и история никогда не повторяют себя, и все же в другом смысле они до некоторой степени повторяются всегда» [6, с. 88]. Подобным образом трактуется и оппозиция «прерывность/ пульсация»: как только единица процесса «перестает быть идентифицируемой, сам процесс следует считать законченным» [6, с. 89]; утрата ею идентичности маркирует паузу завершения в циклических звеньях, конец «шага».
Изменяет социолог и представление о линейной направленности движения: в повторяющихся аспектах этого процесса различаются линейность осциллирующего, спиралевидного и разветвляющегося типа; событийные повторы не проходят дважды по одним и тем же следам. Особый тип повторяемости – циклический – раздваивается на абсолютный (когда последняя фаза цикла возвращается к первой и все начинается сначала) и относительный (когда траектория последующего цикла не совпадает с предшествовавшей).
Наконец, повторяющийся процесс может быть «вариантно или творчески повторяющимся» [6, с. 91]. Когда Сорокин теоретизирует о флуктуациях истины и знания, о волновом чередовании тех или иных тенденций, все выглядит убедительно. Но как только дело доходит до исторической конкретики и вычисления малопонятного «удельного веса», т.е. доли присутствия/от-сутствия самих тенденций, убедительная картина превращается в грубую схему, к которой можно предъявить множество претензий.
Вместе с тем в трактовке общей картины циклических смен умственных движе- ний Сорокин оказывается в целом прав: за 25 веков не фиксируется «непрерывной линейной тенденции ни в одном из течений». С 580 г. до н.э. до 1920 г., утверждает автор «Социальной и культурной динамики», «не было тенденции к непрерывному возрастанию, упадку или сохранению уровня идеализма, материализма или учений смешанного типа. <…> Каждое из этих течений усиливается в ущерб другим, но рано или поздно этот подъем прекращается, сменяется попятным движением, а другое течение начинает свое “crescendo”. Это не исключает монопольного господства одного из этих течений, <…> о чем свидетельствует почти семивековой период исключительного господства идеализма, длившегося примерно с 540 до 1280 г.» [6, с. 336].
П.А. Сорокин полемизирует с Г. Гегелем, Г. Спенсером и О. Шпенглером, упрекая их в чрезмерных обобщениях [6, с. 106, 339–340, 342]. За период в две с половиной тысячи лет Сорокин обнаруживает «существование повторяющихся долгосрочных волн увеличивающейся дифференциации и уменьшающегося единогласия в сфере философской мысли и противоположных волн увеличивающегося согласия и уменьшающейся дифференциации» [6, с. 341].
И все же куда удачнее те разделы труда Сорокина, где он рассуждает о краткосрочных флуктуациях в древних и средневековых культурах, о типах линейных, цикличных и смешанных концепций космических, биологических и социокультурных процессов. Особенно впечатляют страницы, где Сорокин строит свою грандиозную картину циклических смен идеационального, чувственного (визуального) и смешанного (идеалистического, кубистского и др.) стилей искусства [6, с. 99–256].
П.А. Сорокин убедительно обосновывает феномены «вечно нового» и «вечного старого» в историческом процессе. Он делает уступки приверженцам строго линеарной картины движения только в трех случаях: 1) рост населения на планете; 2) рост суммы знания и изобретений; 3) рост социальной дифференциации и интеграции. Отметим, однако, что эти уступки почти не касаются истории культуры: первая интересует демографов; вторая – историков науки и цивилизации; третья – социологов. Но для интегративной теории социокультурной динамики, которую создал Питирим Сорокин, нет
«посторонних» и «лишних» объектов; в этом и состоит столь подкупающая масштабность его научного универсализма.
Диалектика старого и нового в реальном движении истории формулируется у Сорокина следующим образом: «Любой социокультурный процесс в каждый момент является новым и в то же время старым. Эти два противоположных утверждения – система является вечно новой и вечно старой, вечно изменяющейся и и вечно той же самой – взаимно дополняют друг друга. Если мы имеем в виду замену одной системы другой то, следовательно, она может “меняться” in toto [в целом – В. Л. ] в любой момент. В таком случае, это не процесс изменения, а замена или вытеснение одной системы другой» [6, с. 776]. В них и состоит динамика исторического процесса, обеспечивающая новизну старого мира. С выводом Сорокина трудно не согласиться: «Неисчерпаемое разнообразие и вечно новый процесс рождения культуры состоит как из имманентного ограниченного изменения ее систем, так и из непрерывной замены отживших систем вновь рождающимися» [6, с. 777].
В последнее время идея цикличности по-прежнему привлекает к себе внимание исследователей [1; 2; 4 и др.]. В этой связи обратимся к работам Г.С. Померанца, которые демонстрируют пример современного анализа идеи циклизма человеческой истории.
В своих лекциях 1991 г. Г.С. Померанц отметил, что на идею маятникового движения культуры его навело изучение творчества Ф.М. Достоевского: большинство писателей двигались от романтизма к реализму, а Достоевский сначала написал реалистическую повесть «Бедные люди», чтобы потом писать сплошь романтические вещи («Двойник», «Белые ночи», «Хозяйка» и пр.), а затем перейти к монументально-реалистическому романному пятикнижию. Не вдаваясь в филологические нюансы такого суждения, надо сказать, что Померанц в целом прав: «колебания» между «архаизмом» и «новаторством» изучал еще Ю.Н. Тынянов.
Переводя такие рассуждения о «двойном времени русской литературы» в историософскую плоскость, Померанц усматривает в чередовании стилей логику более широкого применения: «За Ренессансом <…> следует барокко. Ренессансная композиция – круг, барочная – гипербола, уходящая в бесконечность. Барокко – разрушение круга, порыв в бесконеч- ность, классицизм – опять круг, замкнутость, господство разума: все обозримо, все четко и ясно. Романтизм – опять уход в бесконечность <…> Позитивистский реализм, декаданс… Получается зигзаг: на одной стороне рациональное, ясное, светлое, дневное, на другой – темное, ночное, интерес к демоническому, к демону превратности, к иррациональному» [5, с. 197–232].
Соглашаясь в целом с полезностью таких аналогий, заметим все же, что из схемы Померанца куда-то исчезла готика, в которой «порыва в бесконечность» куда больше чем во всем барокко. С другой стороны, в понятие декаданса Помереанцем включены, видимо, авангард и символизм, а это совсем не одно и то же (А. Блок мог сказать о себе: «Я до декадентов»).
На ряде выразительных примеров Померанц показал, как империи, уничтожая архаические племена, лишают их первоначальной целостности картины мира и мирочувствия («основного ума», как сказано о кн. Мышкине у Епанчиных), чтобы потом, выходя из кризисов «осевого времени», средствами религиозной письменности дать народам их единственную книгу, возвращающую утраченное единство мира (Библию, Коран, Бхагаватгиту). При всей справедливости такого суждения, стоит вспомнить и о том, что люди древнейших и древних культур жили в рамках мифологической сплошности мифа, в то время как великие священные книги человечества создавались в парадигме религиозного, т.е. метафизического мироотношения.
Г.С. Померанц выделил две генеральных ступени развития культуры: на первой – архаика, дофилософская эпоха, «не выносившая своего смысла как четкий принцип. Затем – классическая эпоха, когда культура приобретает огромное свободное богатство форм, но постепенно в этом множестве теряет нечто главное. Это повторяется на каждом этапе. Можно сказать, что в России XIX в. начало русской культуры, как в почке, было заключено в Пушкине; затем у Толстого и Достоевского приобретает наибольшее разнообразие характеров, типов и т.д.; затем утрачивается целостность, которой обладает роман – в частности, роман Достоевского, но также и роман Толстого. <…> Герои Чехова чаще всего теряют непосредственно ощущаемый смысл жизни, которым обладала, напр., Наташа Ростова» [5, с. 204–205].
Общество
Померанц предлагает освободиться от этических предпочтений прогресса или регресса: они взаимообратимы и не являются добром или злом. Он также предпочитает отказаться от биологических метафор развития (рождение, расцвет, упадок, смерть), которыми пользовались Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби и Л.Н. Гумилев. «Цивилизации гибли вовсе не от старости. Рим, напр., моложе Китая, но развалился и погиб. Цивилизации гибнут от потери равновесия» [5, с. 222]. На огромном материале Померанц показывает, как и в древних культурах, и в современных цивилизациях происходит маятниковый процесс расцвета и гибели, возврата к утраченным ценностям и к их последующей девальвации.
Таким образом, идея циклического процесса в человеческой истории всегда находилась под пристальным вниманием философской, исторической, социологической и культурологической мысли. Вряд ли можно создать единую целостную концепцию исторических ритмов. История оглядывается, рифмуется, возвращается, пародирует себя – и связывает поколения в великую цепь бытия. Примечательно и то, что известные социологические труды связаны именно с идеей цикличности, путь которой еще не завершен. Предстоит еще много размышлять над необъятным массивом исторической событийности и о сложности загадок непрерывного исторического времени, особенно в контексте драматической российской истории.
Список литературы Идея цикличности исторического процесса в трудах мыслителей ХХ в
- Гавров С.Н. Россия после кризиса: возрождение всероссийского имперского мира//Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. -2009, № 4. -С. 88-95.
- Елфимов Г.М. Содержание категории нового от элеатов до начала ХХ в.//Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. -2008, № 3. -С. 203-229.
- Кареев Н. Социология г. Тахтарева//Русское богатство. -1917, № 4-5.
- Котылев А.Ю. Титаны переходной эпохи: Сравнительно-культурологический анализ автобиографии К.Ф. Жакова и П.А. Сорокина//Историческое произведение как феномен культуры. -Сыктывкар: СыктГУ, 2005.
- Померанц Г. Лекции по философии истории/Миркина З.А. Огонь и пепел: (Духовный путь Марины Цветаевой). -М.: ЛИА «Док», 1993. -268 с.
- Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений/Пер. с англ., коммент. и статья В.В. Сапова. -СПб.: РХГИ, 2000. -1056 с.
- Тахтарев К.М. Социологические труды/Вступ. ст., сост. А.О. Бороноев. -СПб.: РХГА, 2006. -840 с.