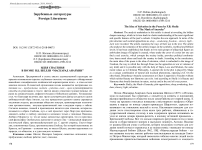Идея спасения в поэме П.Б. Шелли “Маскарад анархии”
Автор: Жилина Наталья Павловна, Дорофеева Людмила Григорьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (47), 2018 года.
Бесплатный доступ
Предпринятый в статье анализ художественной структуры направлен на выявление скрытых глубинных смыслов, что приводит к обнаружению важнейших специфических особенностей мировоззрения поэта - в этом состоит новизна подхода. В сюжетной организации поэмы выявляются центральные оппозиции сон - пробуждение, свобода - рабство, свет - мрак и рассматриваются способы их реализации в тексте. Дается анализ семантики художественных образов на символическом, мифопоэтическом и библейском уровнях. Устанавливается, что благодаря наличию двух групп аллегорических фигур создается в целом амбивалентный образ Англии, где под прикрытием сурового закона скрывается подлинная анархия, разлагающая общество изнутри, провоцирующая политическое противостояние, несущая нравственный хаос и ведущая страну к гибели. Согласно выводам, главной в произведении является идея спасения, которая воплощается в образе Свободы, путь к ней пролегает через Мир (как противоположность войне и любому насилию) и возможен только с помощью Надежды, Любви и Мудрости, т.е. тех же самых ценностных ориентиров, что и в христианской философии. Особую роль выполняет в сюжете Лик - уникальный природномистический образ, противодействующий злу. С другой стороны, Смута-Анархия, синонимичная Хаосу, противоположна Свободе, без которой невозможны ни Красота, ни Гармония - а именно они, по мысли Шелли, должны царствовать и в природе, и в обществе, и в душе каждого человека.
Шелли, маскарад анархии, сюжетные оппозиции, сон, пробуждение, свобода, рабство, свет, спасение
Короткий адрес: https://sciup.org/149127104
IDR: 149127104 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00075
Текст научной статьи Идея спасения в поэме П.Б. Шелли “Маскарад анархии”
Поэма «Маскарад Анархии» была написана Шелли в 1819 г. в Италии, куда он вынужден был переехать с семьей из-за клеветы и поношений, распространившихся в обществе после самоубийства его первой жены. К этому же времени относится появление стихотворного памфлета «Обращение к народу по поводу смерти принцессы Шарлотты», серьезно повлиявшего на отношение властей к поэту. Настоящим поводом для создания этого стихотворения стала казнь трех рабочих, обвиненных в государственной измене, поэтому в нем содержался призыв оплакивать не уход из жизни дочери принца-регента, а кончину истинной принцессы -Британской Свободы. Все это сильно повредило репутации поэта в глазах власти и общественного мнения и вынудило покинуть Англию. Вдалеке от родины Шелли узнал о событии, которое послужило толчком для создания новой поэмы и отразилось в ее подзаголовке: «написано по поводу Манчестерской бойни» [Шелли 1962, 138]. «Манчестерская бойня» - такое название получил митинг рабочих-текстильщиков на площади Святого Петра в Манчестере, который закончился гибелью многих людей после применения правительственными войсками огнестрельного и холодного оружия для разгона демонстрантов. Критическое содержание поэмы оказалось настолько острым, что возможность для ее появления в печати возникла лишь через тринадцать лет: как указывает один из исследователей творчества Шелли, даже его друг, поэт и журналист Ли Хант, имеющий возможность содействовать ее публикации, долгие годы не решался на это, опасаясь реакции властей [Kuiken 2011, 95].
К моменту написания этого произведения Шелли был уже достаточно известным поэтом, кроме глубоких лирических текстов им были созданы такие значительные произведения лиро-эпического жанра, как «Королева Маб», «Аластор, или дух Одиночества», «Возмущение ислама», обратившие на себя внимание публики. Новая поэма, по своей идейной позиции близкая к прежним, обладала и серьезными стилевыми отличиями. Поскольку ее главные персонажи представлены в виде аллегорических фигур, к тому же имеющих в ряде случаев номинацию исторических лиц, ее социальная направленность выглядит несколько прямолинейной, а художественная система может показаться упрощенной. Видимо, именно с этим обстоятельством связано то отсутствие пристального внимания к этой поэме со стороны исследователей, которое было проявлено к другим произведениям Шелли. Так, интерес зарубежных ученых привлекали, прежде всего, исторические лица, послужившие прототипами персонажей поэмы, параллели с биографической реальностью, а также сатирическая направленность и концепция ненасилия, оказавшая в дальнейшем большое влияние на общественное сознание [Kriston 2006]; [Reiman, Fraistat 2002]; [Stroup 2000]. В отечественной науке советского периода главными объектами внимания были революционные идеи поэта, его отношение к религии и социальная проблематика [Елистратова I960]; [Неупокоева 1959]. В последние десятилетия произведение Шелли не стало предметом целостного анализа в отдельной работе, а в весьма объемной и глубокой монографии о творчестве поэта можно найти лишь упоминание об этой поэме [Дьяконова, Чамеев 1994, 16]. Между тем при внимательном ее прочтении выявляются скрытые глубинные смыслы, что дает возможность обнаружить важнейшие специфические особенности мировоззрения поэта.
Художественная структура произведения, на первый взгляд, не является сложной: Поэт ведет с читателем прямой разговор - однако в дальнейшем оказывается, что рассказ Поэта содержит в себе монологи других героев, а события, о которых повествуется, имеют самое непосредственное отношение не только к его собственной жизни, но и к судьбе всей страны. В первой же строфе возникает оппозиция, играющая важную роль в сюжете всей поэмы: сон - пробуждение; «Когда в Италии я спал, // Внезапно голос прозвучал...» [Шелли 1962, 138]. Пробудившись от сна, Поэт впадает в странное состояние - полусон-полуявь, как бы на грани реальности и вымысла: «.. .И властно он повел, средь дня, // В виденьях Вымысла меня» [Шелли 1962, 138]. Перед взором Поэта предстает необычное шествие, участниками которого являются аллегорические фигуры, соотнесенные в ряде случаев с реальными историческими лицами: впереди всех идет
«Убийство, с ликом роковым», за ним следуют «Обман», «Лицемерье» и «другие Порчи», а замыкает этот ряд «Смута» [Шелли 1962, 138] (в оригинале - Анархия [Shelley]). В изображении каждого из этих «персонажей» большую роль играют художественные детали. Так, «семь ищеек», сопровождающих Убийство, выглядят «жирными», поскольку питаются человеческими сердцами, которыми их кормит хозяин, доставая из-под широкого плаща: «И сыт был ими каждый пес» [Шелли 1962, 138]. В этом образе достаточно ясно просматривается аллюзия на шестую библейскую заповедь «Не убий» (Исх. 20: 13), которая здесь оказывается не просто нарушенной, но напрочь отвергнутой. Исследователи высказывают различные мнения о контекстном значении числа семь, например, Д.Х. Риман и Н. Фрейстэт предполагают, что Шелли обращается к семи нациям (Австрия, Англия, Португалия, Пруссия, Россия, Франция и Шведско-Норвежская уния), отложившим запрет работорговли в 1815 г. [Reiman, Fraistat 2002, 316]. Более предпочтительным представляется другое мнение, высказанное М. Пэй-ли: ученый считает, что семь ищеек, хотя и могут быть рассмотрены в политическом ракурсе, «больше связаны со всеми семерками, представленными в книге Апокалипсиса» [Paley 1991, 95], эксплицируя тем самым эсхатологическую основу этого образа.
Следующий за Убийством одетый в горностай Обман роняет слезы -падая на землю, они превращаются в жернова, убивающие детей. Очевидно, что гибель детей, которые по своей наивности принимают эти слезы за игрушки и пытаются их поймать, открывает перспективу дальнейшего существования всего общества - это страна, лишающая себя будущего. Художественные детали, использованные для создания образа Лицемерия, отличаются гротескной остротой и яркостью: «всё в тенях, // но с светлой Библией в руках» [Шелли 1962, 139] оно восседает на крокодиле. Это животное обладает особой символикой, имеющей непосредственное отношение к данной аллегории. Так, «в средневековой Европе заморское чудовище сделалось персонажем язвительной басни, поскольку было замечено, что крокодил проливает слезы во время пожирания своей жертвы. <...> Такое “совестливое” поведение зубастого хищника породило новое символическое значение: обильные “крокодильи слезы” стали рассматриваться в Европе как аллегория чудовищного лицемерия» [Вовк 2006, 197].
Все эти участники шествия составляют своеобразную «свиту» главного действующего лица, восседающего на белом коне, обагренном кровью: «Последней Смута, в этом сне, // На белом ехала коне, // И конь был кровью обагрен, // А Призрак - точно Смерть был он» [Шелли 1962, 139]. Такой образ всадника на белом коне ассоциативно соотносится с описанием, данным в шестой главе книги Откровения Иоанна Богослова: «конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить» (Откр. 6: 2). В библейском тексте за белым конем, как известно, следуют рыжий, вороной и бледный. (В поэме Шелли представлен лишь один всадник, но благодаря ассоциативному ряду в читательском сознании реконструируются и остальные, поскольку четыре всадника образуют вкупе семантическое единство). До сих пор исследователи не пришли к единому мнению о символике каждого из них, и особенно много разночтений наблюдается в связи с образом первого всадника. (Достаточно сказать, что издавна существуют две противоположные трактовки: согласно одной его считают самим Иисусом Христом, по другой - интерпретируют как Антихриста). Наибольшим предпочтением у богословов пользуется идея о том, что все всадники вместе представляют собой «изображение тех катастроф, которые постигнут мир в его самые трудные, переходные, критические времена» [Мень 2000, 22]. Наиболее точной в связи с данным контекстом представляется такая трактовка всадников Апокалипсиса: на белом коне восседает Раздор (другие его имена -Завоеватель и Мор), Война едет на рыжем коне, на вороном - Голод, а на бледном коне - Смерть [Flegg 1999, 90].
Из библейского текста понятно, что всадник на белом коне является символом победы, но какой именно, кого и над кем, остается неясным. Так, Уильям Баркли считает, что белый конь и его всадник символизируют армию и победу [Баркли 1987, 101], а по мнению Александра Меня, первый конь является воплощением империи [Мень 2000, 22]. Эти толкования не противоречат образу, созданному Шелли: Призрак Смуты олицетворяет Раздор, он является Завоевателем, несет с собой Мор, имеет сходство со Смертью («точно Смерть был он» [Шелли 1962, 139]), в этой ситуации выступает как победитель и вполне может быть воплощением Британской империи, в которой царствуют всевозможные «порчи» и которая забрызгана кровью своих подданных. Другие детали его облика еще более подчеркивают и усиливают это восприятие: «Чело жестокое в венке, И скипетр был в его руке, И знак на лбу лелеял он: “Я Бог, я Властелин, Закон”» [Шелли 1962, 139]. Королевская корона (“kingly crown” [Shelley]), в оригинальном тексте украшающая голову Призрака, в переводе К. Бальмонта трансформируется в венок, отсылающий читателя к временам Древнего Рима; венок и скипетр - атрибуты римских императоров - были унаследованы затем европейскими коронованными особами [Тресиддер 1999, 36; 339]. Эти детали дополняются, как видим, необычным знаком на лбу, который свидетельствует о незыблемости власти Призрака на трех уровнях: высшем, неподвластном человеку (Бог), социальном (Властелин), юридическом, правоохранительном (Закон). Так возникает образ Англии, зараженной всевозможными «порчами», которые прячутся под нарядными и богатыми одеждами «шпионов, пэров и судей» [Шелли 1962, 139] (как представителей трех ветвей власти), а покорные страшному Призраку «ханжи, законники» [Шелли 1962, 141] с готовностью участвуют в его сакрализации, как молитву произнося фразу, написанную на его челе. В оригинальном тексте называется еще одна «порча» - епископы (Bishops) [Shelley] - факт, особо подчеркивающий отношение Шелли к официальной церкви.
Призрак, властвующий «Над всей Английскою землей» [Шелли 1962, 139] и слепо чтимый массами, вместе со свитой совершает стремительный 182
поход, оставляя за собой лужи крови. Покорив всю страну, «свирепая толпа» [Шелли 1962, 140] добирается до Лондона, где ее встречают «дикие» [Шелли 1962, 140] (в оригинале - «кровавые» [Shelley]) войска, поющие ту же «молитву» и жаждущие «крови, золота и бед» [Шелли 1962, 140]. А простые жители столицы, как бессловесная масса, в паническом страхе прячутся по домам.
Единственным существом, вносящим диссонанс во все происходящее, становится появившаяся на площади безумная Надежда - дочь старого седого Времени, одна из всех его детей оставшаяся в живых. Слабая и обессилевшая, похожая больше на Отчаянье, она падает на землю, готовая принять смерть под копытами коня. И в этот момент происходит нечто удивительное: «Меж ней и ими вдруг возник // Какой-то свет, какой-то лик...» [Шелли 1962, 142]. Английское слово “a Shape”, которым Шелли обозначает это явление, Бальмонт переводит как «Лик», усиливая тем самым значение вмешательства не просто метафизической силы, но высшего существа (которое в русском сознании имеет совершенно определенную семантику Бога-Троицы). Напоминая вначале больше туман, чем свет, будучи «и слаб, и мал» [Шелли 1962, 142], он постепенно набирает силу, растет, превращаясь в сгусток энергии, направленный против свирепой толпы, несущей смерть. Чрезвычайно важно, что этот свет зарождается как особое, ни с чем не сравнимое явление природы, которая, по Шелли, есть не только средоточие всего самого прекрасного в мире, но и его первооснова. Наполненная этой энергией, Надежда, обретя силу, теперь спокойно и уверенно идет вперед, не глядя на залитую кровью землю. «Вскормленная в зле» [Шелли 1962, 143] Смута уже мертва, а «Конь Смерти» теперь дробит копытами «Убийц, чей строй так люден был» [Шелли 1962, 143]. После этой победы «Лучистый свет блеснул из туч» [Шелли 1962, 143], и в умах людей возник «гимн», могучие звуки которого произвела Земля: мать «Сынов Английских, - ощутив // Негодованье, видя кровь //Ик детям чувствуя любовь, - Из каждой красной капли вдруг // Сод слала могучий звук, // И сердце все вложила в крик, // И гимн властительный возник» [Шелли 1962, 144]. Только теперь читателю становится понятно, какой именно «голос» заставил Поэта пробудиться от сна. Мотив сна в литературе, как известно, всегда имел большое значение, выполняя различные функции. Особую роль он играл в романтизме, испытывавшем огромный интерес к инобытию, знаки которого, как считалось издревле, могут проявляться именно во сне. Однако в противоположность многим романтическим произведениям, где сон воплощает в себе истинное бытие, в поэме Шелли сон имеет семантику ложного существования и сменяется прозрением, позволившим Поэту увидеть истину.
Имеющий форму открытого монолога, гимн Земли является настолько развернутым и пространным, что занимает почти две трети от общего объема всего текста поэмы. Обращаясь к «людям Англии», Земля призывает их вспомнить, что главной ценностью в жизни является Свобода. Оппозиция сон - пробуждение реализуется теперь на новом уровне: очнуться и восстать необходимо всей стране, погруженной в тяжелый, беспробудный, лишающий сил и энергии сон Рабства.
В речи Земли, обращенной к «Сынам Непогасимой Старины» [Шелли 1962, 144], не случайно использовано сравнение со львами («Восстаньте ото сна, как львы...» [Шелли 1962, 144]). Известно, что главным символом Великобритании, изображенным на ее гербе, является лев - образ, олицетворяющий, прежде всего, силу и храбрость [Тресиддер 1999, 188] - качества, которые в художественном мире поэмы были утрачены народом Англии в результате владычества страшного Призрака Анархии. Уместно напомнить и другую деталь: будучи дочерью старого (те. прежнего) Времени, Надежда воплощает в себе ценности и традиции старины, которые призваны помочь народу в его освобождении.
Оппозиция свобода - рабство реализуется в двух частях монолога Земли. Вопросом «В чем Вольность, знаете ль?» [Шелли 1962, 144] начинается первая часть - в ней разворачивается изображение того рабского состояния, в котором давно существует, сам того не замечая, простой народ страны. Мысль о том, что представители низших слоев общества лишены самого необходимого в повседневной жизни - пищи, крова и отдыха от непосильной работы - подкрепляется сравнением с дикими и домашними животными, которое оказывается не в пользу людей: «О Англичанин, только ты // Бездомен в мраке нищеты” [Шелли 1962, 146]. Подробный рассказ, в котором возникают картины тяжелой жизни народа, заканчивается следующим выводом: «Вот это Рабство - посмотри, // Терпеть не станут дикари, // И зверь доселе не терпел // То, в чем обычный твой удел» [Шелли 1962, 146].
Вторая часть монолога Земли, в котором, безусловно, выражается и авторское восприятие, посвящена размышлениям о Свободе. Житейский уровень, с которого начинается раскрытие этого важнейшего в романтической системе понятия, сменяется затем на философско-метафорический. По мысли автора, Свобода, олицетворяя для бедняка такие насущные вещи, как хлеб, очаг и одежда, должна быть уздой для богатого, «когда // Он топчет слабых» [Шелли 1962, 147]. Неотделимая от Справедливости (ее суд неподкупен), она сопряжена с Мудростью (как верой в высшее милосердие), является воплощением Мира (поскольку противостоит насилию как главному злу) и заключает в себе Любовь. Таким образом, в художественной структуре поэмы очевидно наличие противоположных аксиологических систем, реализующихся в двух группах аллегорических фигур: с одной стороны, Призрак Анархии, сопровождаемый всевозможными «Порчами», олицетворяющий насилие и несущий смерть, с другой -Свобода, воплощающая Справедливость, Мир и Мудрость, но невозможная без Любви и Надежды.
Первая группа персонажей представляет собой зрелище того настоящего, в котором существует государство, вторая же воплощает будущее Англии, о котором мечтает Шелли. Такая картина отчетливо показывает, что спасение страны возможно лишь при полном изменении существую- щего порядка: только уничтожение Анархии даст возможность свободного развития всей Англии.
Нельзя не заметить, что разделение на группы не вполне соответствует сословному признаку, определяющими здесь являются нравственные ориентиры. Устами Матери-Земли провозглашается, что Свобода - это состояние души, возникающее лишь при определенных условиях, и главным препятствием к ее обретению признается стремление человека к насилию: по мысли автора, кровь и вольность - это понятия несовместимые. Уместно заметить, что кровь - самая частотная лексема в тексте поэмы: она употребляется в оригинале 17 раз, как бы сигнализируя даже на этом уровне о том состоянии, в котором находится страна. Лексема свобода, употребляющаяся гораздо реже, тем не менее, является своего рода маркером главной идеи всей поэмы: спасением от нравственной и физической гибели как одного человека, так и всего народа может быть лишь истинная (т.е., по Шелли, обретенная бескровно) Свобода. Только Любовь способна открыть ей дорогу в сердце любого человека, а наука, литература и философия являются ее проводниками и называются светочами - таким образом, оппозиция свобода - рабство коррелирует здесь с оппозицией свет - мрак. Именно поэтому призыв Земли ко всем, кто «вольны смелою душой» [Шелли 1962,149], объединиться против тирании сопровождается предостережением: не прибегать к насилию ни при каких обстоятельствах: «Ты Мир: сокровища и кровь // Не тратишь, чтоб сбирать их вновь, // Как тратили тираны их, Чтоб пламень в Галлии затих» [Шелли 1962, 148].
На протяжении поэмы постоянно подчеркивается опасность мести и призыв не совершать ответный удар по своим угнетателям, а содержащаяся в этом стихе прямая отсылка к опыту Великой французской революции, когда для достижения благородных целей были использованы кровавые методы, должна, по мысли поэта, послужить предостережением английским читателям. В этот период своего творчества Шелли был уверен в том, что сопротивление без пролития крови обязательно даст благие плоды: убийцы покроют себя позором и, устыдившись, прекратят войну: «И для народа та резня // Зажжет огонь иного дня» [Шелли 1962, 153]. Как считает Л.С. Кристон, в речи Земли проявляется «вера в силу человеческого духа противостоять самым экстремальным формам насилия» [Kriston 2006, 53]. Анализируя эту важную для автора идею, У.Дж. Струп размышляет таким образом: «ненасильственное сопротивление является тактикой не слабых, а сильных; но она более эффективна, и возможность ее осуществления требует “солдат” с дисциплиной, смелостью, тренировкой и даже готовностью умереть» [Stroup 2000, 107]. Особую роль Шелли отводит Слову: именно оно должно стать главным оружием в этой борьбе. Все, кто объединится «В Собранье смелом и живом» [Шелли 1962, 150], должны заявить свое кредо, и тогда час победы будет близок: «Как заостренные мечи, // Слова пусть будут горячи // И полны смелой широты, // Как в бой подъятые щиты» [Шелли 1962, 150]. Его собственная роль как поэта в деле освобождения страны от тирании Призрака Анархии и со-

провождающих его всевозможных «порч» осознавалась Шелли в этом же плане: поэма должна была зажечь сердца людей и обратить их против притеснителей.
Мировоззрение Шелли с самого начала его творческого пути отличалось, как известно, антирелигиозной направленностью. Увлечение атеиз мом, характерное для раннего периода, постепенно сменилось у него пантеистическими представлениями. Как справедливо замечают авторы монографии о поэте, «отрицая существование Бога-творца, Шелли утверждает вместе с тем, что в основе всего сущего лежит духовное начало, душа, иными словами, он пантеистически одухотворяет материю» [Дьяконова, Чамеев 1994, 29]. В то же время отношение к христианству не изменялось у поэта на протяжении всей жизни, оставаясь резко отрицательным. Именно поэтому нельзя не заметить, какое значительное место занимают в этой поэме библейские реминисценции и аллюзии.
Детальный анализ текста поэмы Шелли приводит к выводу, что главной в нем является идея спасения, реализованная в образе Свободы, а путь к ней пролегает через Мир (как противоположность войне и любому насилию) и возможен только с помощью Надежды, Любви и Мудрости, те. тех же самых ценностных ориентиров, что и в христианской философии. В то же время Смута-Анархия, синонимичная Хаосу, противоположна Свободе, без которой невозможны ни Красота, ни Гармония - а именно они, по мысли Шелли, должны царствовать и в природе, и в обществе, и в душе каждого человека.
Список литературы Идея спасения в поэме П.Б. Шелли “Маскарад анархии”
- Баркли У. Толкование Откровения Иоанна / пер. с англ. Вашингтон, 1987.
- Вовк О.В. Энциклопедия знаков и символов. М., 2006.
- Дьяконова Н.Я., Чамеев А.А. Шелли. СПб., 1994.
- Елистратова А.А. Наследие английского романтизма и современность. М., 1960.
- Мень А. Читая апокалипсис. Беседы об Откровении святого Иоанна Богослова. М., 2000.
- Неупокоева И.Г. Революционный романтизм Шелли. М., 1959.
- Тресиддер Дж. Словарь символов / пер. с англ. С. Палько. М., 1999.
- Шелли П.Б. Маскарад Анархии // Шелли П.Б. Избранное / пер. с англ. М., 1962. С. 138-153.
- Flegg C.G. An Introduction to Reading the Apocalypse. Crestwood, NY, 1999.
- Kriston L.S. Words, Ideas, and Revolution: Political Engagement in Shelley’s Poetry. Ann Arbor, 2006.
- Kuiken K. "Shelley's Mask of Anarchy" and the Problem of Modern Sovereignty // Literature Compass. 2011. Vol. 8. Issue 2. P. 95-106. URL: http://onlinelibrary. wiley.com/ (accessed 25.11.2018). x/full
- DOI: 10.1111/j.1741-4113.2010.00773
- Paley M.D. Apocapolitics: Allusion and Structure in Shelley’s «Mask of Anarchy». Huntington Library Quarterly. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1991. Vol. 54. № 2 (Spring). P. 91-109.
- Reiman D.H., Fraistat N. (eds). Shelley’s Poetry and Prose. New York, 2002.
- Shelley P.B. The Mask of Anarchy: Written on the Occasion of the Massacre at Manchester. URL: http: // knarf.english.upenn.edu/PShelley/anarchy.html (accessed 9.04. 2017)
- Stroup W.J. Shelley and The Nature of Nonviolence. Ann Arbor, 2000.