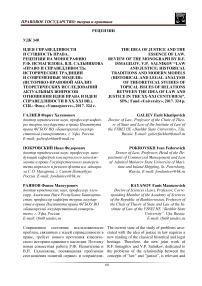Идея справедливости и сущность права. Рецензия на монографию Р.Ф. Исмагилова, В.П. Сальникова "Право и справедливость: исторические традиции и современные модели" (историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи справедливости в ХХ-ХХI вв.). СПб.: фонд "Университет", 2017. 324 с
Автор: Галиев Фарит Хатипович, Покровский Иван Федорович, Раянов Фанис Мансурович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Рецензии
Статья в выпуске: 3 (49), 2017 года.
Бесплатный доступ
Современное состояние исследованности проблем, связанных с идеей справедливости в праве, требует нового прочтения классического историко-правового наследия. Поэтому новая совместная работа Р.Ф. Исмагилова и В.П. Сальникова, посвященная проблемам соотношения понятий «право» и «справедливость», является актуальной и востребованной. Несмотря на то, что на эту тему написано уже очень много, авторам удалось найти свой, оригинальный, подход к теме, выразившийся, во-первых, в трактовке справедливости как онтологического фундамента права и, во-вторых, в исследовании работ классиков права под этим углом зрения. Позиция далеко не бесспорная, но, разумеется, заслуживающая свое право на существование в современном юридическом дискурсе.
Право, справедливость, нравственно-правовые ценности, политико-правовые традиции, современные модели
Короткий адрес: https://sciup.org/142232761
IDR: 142232761 | УДК: 340
Текст научной статьи Идея справедливости и сущность права. Рецензия на монографию Р.Ф. Исмагилова, В.П. Сальникова "Право и справедливость: исторические традиции и современные модели" (историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи справедливости в ХХ-ХХI вв.). СПб.: фонд "Университет", 2017. 324 с
University”, Ufa, Russia.
The current state of the study of problems associated with the idea of justice in law requires a new reading of the classical historical and legal heritage. Therefore, the new joint work of R.F. Ismagilov and V.P. Salnikov, dedicated to the problems of the relationship between the concepts of "law" and "justice", is relevant and

Исторический этап, который переживает сегодня Россия, требует новых общенациональных идей, способных консолидировать общество и предложить ему пути дальнейшего развития. В дело теоретического обоснования этих идей должна внести свой вклад и историкоправовая наука. К числу наиболее значимых составляющих концептуальной разработки путей достижения этого социального, политико-правового идеала относится понятие справедливости, исторически развивавшееся в тесной взаимосвязи с основными категориями теории права.
Поэтому особенно актуальной представляется попытка нового прочтения классического историко-правового наследия в аспекте проблематики идеи справедливости в праве. Можно признать, что хотя по этому вопросу написано уже очень много, авторам удалось найти свой, оригинальный, подход к теме, выразившийся в трактовке справедливости как онтологического фундамента права и в исследовании работ классиков права под этим углом зрения. Позиция далеко не бесспорная, но, разумеется, заслуживающая свое право на существование в современном юридическом дискурсе.
В первой главе «Право и справедливость: парадигмальные модели отношения в классической правовой мысли» на историческом отрезке от Античности до Нового времени рассматривается процесс становления идеи справедливости как фундаментальной основы права. Разумеется, в рамках сравнительно короткой главы невозможно сколько-нибудь подробно исследовать труды Платона, Аристотеля или Джона Локка. Но авторы нисколько и не претендуют на это. Им важно другое: опираясь на авторитет великих мыслителей, показать саму возможность помыслить справедливость как онтологическое основание права, но вместе с тем и обозначить историческую ограниченность такого подхода в пределах естественно-правовой традиции.
Авторы показывают, что для сторонников теории естественного права в ее классических формах связь общества, государства и человека опосредуется прежде всего идеей справедливости. Еще Платон подчеркивал внутреннюю целостность человека и государства именно тем, что указывает на справедливость как на высшее начало их обоих. Согласно Аристотелю, нравственность и справедливость составляет благо государства и цель законов в качестве того в них, «... что служит общей пользе...». Естественное право, согласно правопо-ниманию римских юристов (Гай, Пипиниан, Павел, Ульпиан, Модестин), воплощало требования справедливости и в целом выражало ту основополагающую идею, что право вообще справедливо. Обоснование соотношения естественного и позитивного права через опосредованную идею справедливости представлялось (и было) в древности вполне очевидным. А потому содержание естественно-правовой концепции, которое разработали Платон, Аристотель и Ульпиан, сохраняло свое неоспоримое влияние вплоть до эпохи Средних веков, когда Фома Аквинский придал ему окончательную форму, ставшую общепринятой на все средние века.
Здесь важно подчеркнуть, что вышеуказанную проблематику авторы уже затрагивали ранее в своих публикациях [3; 4]. Постановка античными мыслителями вопроса об онтологическом статусе справедливости, по мысли авторов монографии, остается за пределами как механистической концепции права Томаса Гоббса, так и натуралистических учений просветителей. Как считают авторы, осуществленная в Новое время десакрализация идеи справедливости лишала ее качеств вечного и священного для людей принципа, освящающего собой также право, законы, государство. Справедливость, будучи порождена разумом, может быть разумом же и изменена. Она становится чем-то относительным, зависящим от прагматических целей и задач. Авторы пишут, что хотя ни Гоббс, ни Локк, ни Монтескье, ни Руссо не делают подобных выводов, эта возможность заложена в самой сконструированной ими этико-правовой модели.
Далее авторы утверждают, что новая парадигма права, основанная на связи идеи справедливости с идеей свободы, начинает складываться в немецкой классической философии. В трансцендентальной философии Иммануила Канта принцип свободного самоопределения человека трансформируется в принцип добровольного подчинения личности общественному порядку, что закрепляется как в нравственных нормах гражданского общества, так и в законах государства. Удачной представляется ёмкая характеристика философии права Канта, которой Р.Ф. Исмагилов и В.П. Сальников завершают свой анализ учения создателя критической философии: «Право, по Канту, есть результат деятельности разума и воли человека. Оно не является каким-то естественным законом или набором норм, имеющим такую же модальность, как и вечные законы природы. Но при этом разум, создающий нормы права, действует, исходя из его априорных принципов. А значит, действует не произвольно и его нормы могут приниматься как всеобщие по своей природе. Искусственности права Кант противопоставляет не натурализм естественного, а всеобщее начало синтезирующего разума. Кантиански мыслящих правоведов в XIX и в ХХ вв. привлекала в этой парадигме именно кажущаяся очевидной возможность сочетания позитивного права и его надправовых оснований, дававших возможность апеллировать к системе высших ценностей. Немецкая классическая философия стремилась дедуцировать систему этических и правовых категорий из единого понятия свободы. При этом И. Кант усматривал условия этой дедукции в способности познания и в способности воли субъекта. Г.В.Ф. Гегель исходил из понятия свободы как исторически развивающегося единства субъекта и объекта» [6, с. 62].
Авторы монографии большое внимание уделяют творчеству Гегеля. Согласно Гегелю, считают авторы, для свободного духа справедливость выступает в качестве основания действительности права. Право же, основанное только на принуждении, нельзя назвать правом. Непосредственную проявленность абсолютного начала в праве Гегель обосновывает (развивая при этом классическую традицию) указанием на идею справедливости, которую он противопоставляет насилию. Фрагменты монографии, посвященные Гегелю, занимают значительное место в монографии. Это и понятно. Авторы стремятся раскрыть содержание гегелевского понятия свободного духа как субъекта права, преимущественно развивая историкофилософскую концепцию проф. Д.В. Масленникова [7], в которой это понятие интерпретируется прежде всего как действительная субстанция-субъект, а значит «объективный дух», составляющий сущность права, понимается с учетом его субъективной составляющей. В таком случае право предстает формой процесса различения добра и зла, формой для экспликации внутреннего содержания абсолютных идей равенства, свободы и блага [1, с. 9].
Действительно, авторы взяли на себя тяжелую ношу.
Вторую главу монографии авторы посвятили «Идеи справедливости в традициях постклассической философии права». Из числа относительно близких нам по времени правоведов Р.Ф. Исмагилов и В.П. Сальников выделили тех, кто уделял особое внимание проблеме спра-
ведливости в праве. Так, мы найдем в монографии интересные страницы, посвященные Г. Кельзену, Г. Радбруху, Дж. Ролзу, Ю. Хабермасу и другим авторам, учения которых до сих пор еще мало исследованы отечественной историко-правовой наукой.
Опираясь на их труды, Р.Ф. Исмагилов и В.П. Сальников показали, каким образом неокантианские предпосылки, лежащие в основе большинства крупных современных теорий права, отражают реальное состояние западного общества: «Кантиански мыслящих правоведов в XIX и в ХХ вв. привлекала в этой парадигме именно кажущаяся очевидной возможность сочетания позитивного права и его надправовых оснований, дававших возможность апеллировать к системе высших ценностей» [2; 6, с. 62].
Резюмирующим итогом историко-правовых исследований Р.Ф. Исмагилова и В.П. Сальникова стала их оригинальная авторская концепция интуиции справедливости и права, изложенная в третьей главе монографии, которая названа «Интуиция справедливости и права как начало правосознания».
Как показали авторы исследования, позитивное познание права основано на методе, в котором имплицитно всегда присутствует акт интуиции, не осознаваемой, однако, именно как интуиция. Интуитивистская же рефлексия, сущность которой они для нас раскрывают в своей работе, прерывает действие этого метода. Постигая саму интуицию как акт действия, рефлексия возвышается до ее понимания как механизма всеобщего мышления. В обыденном познании права и справедливости, которое во многом основано на интуиции, забывают о ее роли и самом ее существовании. Напротив, философско-правовое познание в своей рефлексии обнаруживает интуитивное содержание каждого акта познания права и саму правовую интуицию делает объектом интуиции. Задачу философско-правового познания в сфере интуитологии права Р.Ф. Исмагилов и В.П. Сальников видят в том, что форма интуиции, которая воспринимается обыденным сознанием как нечто необъективное, получает форму объективного: «Таким образом в акте рефлексии интуитивного на деле осуществляется переход субъективного чувства справедливого в объективное. Искусство сознательной целенаправленной (профессиональной) интуиции права как раз и заключается в способности постоянно удерживать двуединство непосредственности и рефлективности интуиции справедливости и права» [5; 6, с. 180].
Очевидно, что для юриста, причем как теоретика, так и практика, мало иметь только набор знаний по своему предмету. Он еще должен обладать тем, что обычно называют интуицией права. К сожалению, этот раздел теории права - правовая интуитология – до сих пор остается одним из самых неразработанных разделов юридической науки. И, пожалуй, впервые в отечественной науке мы можем встретить разработку, действительно, самых фундаментальных ее основ. Опираясь на эти результаты, авторы вносят новые элементы в разработанную ими ранее теорию правосознания и правовой культуры [8; 9]. А именно: они доказывают, что присутствие интуиции права и справедливости в системе правосознания является тем фактором, благодаря которому мир нравственности и права не представляется сознанию как нечто аморфное, некое расплывчатое, неструктурированное состояние. При этом в рамках предложенной авторами интуитивистской парадигмы неустойчивость знания о принципах справедливости не отменяет взаимосвязи системы «справедливость - право», а, скорее, видоизменяет ее, поскольку для того чтобы отдельные акты познания оказали хоть какое-то влияние на систему знания о справедливости, она должна находиться в режиме взаимодействия с актами созерцания, что связано с положительной обратной связью интуиции и дискурса [6, с. 201-202].
Опираясь на опыт прочтения классиков права, Р.Ф. Исмагилов и В.П. Сальников детально и вполне убедительно раскрывают роль интуиции высших начал бытия в понимании сущности и смысла права: «Высшее нерефлектированное знание основ бытия, основ абсолютного добра и справедливости само не может быть ничем иным как интуицией. Но теперь мы уже имеем дело с чистой интуицией высших смыслов и ценностей. Именно ее достижения и имеет конечной целью интуитология права. Чистая интуиция основ бытия, абсолютного добра и справедливости абсолютно тождественна себе самой. Ее можно также назвать базовой или основной интуицией, которая лежит в основании всех звеньев познания. Прямо или косвенно она является исходным первознанием всякого знания о формах проявления справедливости в обществе и одновременно условием их познания. Значит, цель создать гносеологическую модель интуиции права и справедливости, то есть такую науку, для которой субъективное начало станет исходным и первичным, непосредственно имеет результатом высший принцип и чистое содержание знания сущности абсолютного добра и справедливости» [6, с. 182-182].
Нельзя не согласиться с таким выводом, особенно с учетом того вклада, который сделали на пути достижения указанной цели сами Р.Ф. Исмагилов и В.П. Сальников. Можно только пожелать им не останавливаться на полпути и продолжить свои исследования абсолютных начал правовой интуитологии. Надеемся, что можно ждать и новых историкоправовых разработок, раскрывающих смысл представлений правоведов прошлого о значении абсолютных нравственно-правовых ценностей.
Список литературы Идея справедливости и сущность права. Рецензия на монографию Р.Ф. Исмагилова, В.П. Сальникова "Право и справедливость: исторические традиции и современные модели" (историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи справедливости в ХХ-ХХI вв.). СПб.: фонд "Университет", 2017. 324 с
- Гусев О.В., Масленников Д.В., Ревнова М.Б. Церковь и духовный смысл права / Юридическая мысль. 2017. № 1.
- EDN: ZMZQFV
- Жданов П.С., Романовская В.Б., Сальников В.П. Добро как должное и зло как реальность (о категории «зла» в русской философии права) / Мир политики и социологии. 2013. № 12. С. 186-191.
- EDN: TZXWHN
- Исмагилов Р.Ф. Право и справедливость в контексте исторических традиций / Мир политики и социологии. 2016. № 5. С. 87-92.
- EDN: WXGXCN
- Исмагилов Р.Ф. Сальников В.П. Право и справедливость: актуальность теоретико-правовой концепции / Юридическая наука: история и современность. 2016. № 8. С. 168-172.
- EDN: XWUQNZ
- Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Нравственно-правовая самоорганизация личности и интуиция / Юридическая наука: история и современность. 2017. № 2. С. 168-178.
- EDN: YQDHVG
- Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Право и справедливость: исторические традиции и современные модели (Историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи справедливости в ХХ-ХХI вв.). СПб, 2017.
- EDN: YMYWAR
- Маков Б.В., Масленников Д.В. Историко-философские основания идеи развития: от античности до синергетики. СПб.: НОИР, 2014.
- Сальников В.П. Право и свобода в качественной иерархии ценностей личности / Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2006. № 9. С. 6-15.
- EDN: HVPXML
- Сальников В.П. Правовая культура. Гл. XX / Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах / отв. ред. М.Н Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. Том 3: Государство, право, общество. М.: ИНФРА-М, 2013. С. 503-530.