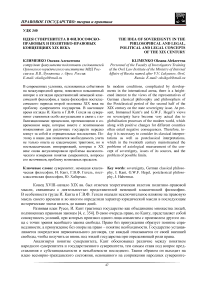Идея суверенитета в философско-правовых и политико-правовых концепциях XIX века
Автор: Клименко Оксана Алексеевна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (47), 2017 года.
Бесплатный доступ
В современных условиях, осложненных событиями на международной арене, появляется повышенный интерес к взглядам представителей немецкой классической философии, а также философов постклассического периода второй половины XIX века на проблему суверенитета государства. В настоящее время взгляды И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля на суверенитет становятся особо актуальными в связи с глобализационными процессами, протекающими в современном мире, которые вместе с позитивными изменениями для различных государств нередко влекут за собой и отрицательные последствия. Поэтому в наши дни появляется необходимость учета не только опыта ее классических трактовок, но и постклассических интерпретаций, которые в ХХ веке снова актуализировали проблемы аксиологического измерения понятия суверенитета, вопросы его источников, проблему возможных пределов.
Суверенитет, немецкая классическая философия, и. кант, г.в.ф. гегель, постклассическая философия, ю. хабермас
Короткий адрес: https://sciup.org/142233861
IDR: 142233861 | УДК: 340
Текст научной статьи Идея суверенитета в философско-правовых и политико-правовых концепциях XIX века
Конец XVIII–начало XIX вв. был отмечен теоретическим взлетом политико-правовой мысли, связанным с деятельностью представителей немецкой классической философии. В особенности труды И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля оказали исключительное влияние на правовую мысль своего времени и во многом определили характер юридической мысли в последующие исторические эпохи вплоть до наших дней.
Развивая идеи Руссо, И. Кант трактовал государство как объединение множества людей, подчиненных правовым законам [4, с. 354]. В свою очередь право, по Канту, представляет собой совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с произволом другого лица с точки зрения всеобщего закона свободы. Право без принуждения образует понятие справедливости, а принуждение без опоры на право – понятие необходимости. Государство устанавливается посредством первоначального договора, где каждый отказывается от своей внешней свободы, чтобы получить ее вновь под эгидой государства при определяющей роли права.
Анализируя понятие суверенитета, Кант обосновывал различие между понятием народного суверенитета и государственного суверенитета, тем самым ставя под вопрос представления о субстанциальности и незыблемости последнего. Таким образом он выходит на идею всемирно-гражданского состояния, основанного на сопряжении народных суверените-

тов и возвышающегося на отдельными государственными суверенитетами во имя общей пользы. Автор «Критики практического разума», говорил не просто о том, что право может стать средством поддержания мира, но изначально вел речь именно о справедливом мире. Справедливый и устойчивый мир, в свою очередь, не может быть результатом временного и случайного баланса сил и межгосударственного договора. Его установление на длительную перспективу возможно в рамках того всемирно-гражданского состояния, о котором говорит Кант. «Идея всемирно-гражданского устройства, гарантирующего «объединение всех народов под эгидой публичных законов», обретает значение «истинного», императивного, а не просто временного состояния мира» [4, с. 110]. Разум требует наложить вето на войну как на систему постоянных убийств и нарушений прав личности: «Никакой войны не должно быть; ни войны между мной и тобой в естественном состоянии, ни войны между нами как государствами, которые внутренне хотя и находятся в законном состоянии, но внешне (во взаимоотношении) – в состоянии беззакония» [5, с. 391].
Для Канта вечный мир – это всего лишь долженствование, установка разума, требующего субъективно полагаемого предела развитию правовых принципов. «Вечный мир» в системе кантовских понятий – это искусственно полагаемый предел бесконечного совершенствования правового мышления, который необходимо поставить для того, чтобы обеспечить его целостность. Это в чистом виде – аналог «идеала чистого разума» теоретического познания и идеи блага практического разума. По Канту, разум знает, что ни теоретический, ни практический идеал не достижимы, однако, должен их полагать в качестве реальной цели, чтобы обеспечить целостность своей теоретической и практической способности.
Согласно тонкому замечанию Ю. Хабермаса, для Канта право является не просто средством для поддержания мира между государствами. Скорее, наоборот, мир между нациями он понимает как мир, справедливый изначально [13, с. 110]. Соответственно, можно трактовать этот теоретический посыл таким образом, что для Канта гипотетический изначальный мир является источником справедливости и права, а значит и высшим началом, легитимирующим суверенитет. Тогда идея «мирной, хотя еще не дружественной общности всех народов» [5, с. 389] оказывается не просто требованием морали, неким высшим принципом права. «Идея всемирно-гражданского устройства, гарантирующего «объединение всех народов под эгидой публичных законов», обретает значение «истинного», императивного, а не просто временного состояния мира» [13, с. 110].
Позволим себе здесь не согласиться с Ю. Хабермасом. В «Критике чистого разума» и в «Критике практического разума» Кант указывает на чисто субъективный характер теоретического и практического идеалов. Он подчеркивает искусственную природу самой границы познания и воли: произвольное перенесение разумом идеала из сферы субъективного долженствования в сферу объективной действительности неизбежно порождает иллюзии. В области же права Кант, напротив, попытался рассмотреть свой аналог «идеала чистого разума» в виде всемирно-гражданского устройства как нечто практически исполнимое. Полагаем, что это был лишь своего рода мыслительный эксперимент, произведенный великим философом права. Если же это не так, то из этого вовсе не следует, что мы должны апеллировать к букве кантовских произведений, а не к их внутренней логике.
Вместе с тем, сам кантовский текст, конечно же, дате основания говорить о том, что в научном творчестве автора трактата «К вечному миру» идея государственного суверенитета впервые подверглась систематической теоретической ревизии как последнее и абсолютное основание правовой жизни. Как нам видится, у Канта сохраняется дуализм между требованием безопасной жизни, которую, якобы, могут дать лишь международные гарантии против войны, и императивом сохранения национальной независимости. Кант специально подчеркивает, что речь идет о независимости народов, отличающихся друг от друга по языку, религии и образу жизни.
Данное противоречие отмечает и Ю. Хабермас: «Теряя суверенитет своих государств, народы могут потерять и национальную независимость, которую они завоевали, следовательно, опасность угрожает и автономии своеобразных коллективных форм жизни народов. Если так прочесть кантовские тексты, то «противоречие» состоит в том, что граждане всемирной республики должны заплатить за гарантии мира и гражданской свободы ценой потери той субстанциональной свободы, которой они обладают, если принадлежат народу, организованному в национальное государство» [13, с. 116–117].
С учетом наметившегося у Канта противоречия между императивом безопасности и национальной свободы актуально прозвучала интерпретация понятия суверенитета в «Философии права» Гегеля, который настаивал на незыблемости основных постулатов его боденов-ской трактовки [6; 9]. Великий мыслитель приходил к их новому пониманию, основываясь на диалектическом понимании вопросов единства индивида и государства, государства и гражданского общества, целостности и дискретности государственного устройства.
Здесь важно иметь в виду саму идею государства в ее понимании автором «Философии права». Государство для Гегеля, прежде всего, является осуществлением духовной свободы, воплощенной как в обществе, так и в индивидах. И именно в таком качестве оно выступает как нечто нравственно целое и единое [3, с. 283]. В противоположность Руссо и Канту Гегель не выводит суверенитет из воли народа, а связывает его непосредственно с самой идеей государства. Здесь важно иметь в виду гегелевскую диалектику, согласно которой, государство само по себе не является некоторой конструкцией, возвышающейся над народом, а составляет его неотъемлемое содержание, подобно душе в отношении к отдельным органам тела. Однако при этом сам народа следует понимать не как агрегат индивидов (vulgus), а как внутренне дифференцированное и сложное образование (populus), т.е. как гражданское общество. На это обращает внимание и на этом настаивает сам Гегель в «Энциклопедии философских наук».
Конечно, такая точка зрения, т.е. в вопросах понимания государства и гражданского общества опираться лишь на труды Г. Гегеля, не является единственной. Так, профессор Ф.М. Раянов пишет, что «многие современные представители политической философии, рассуждая о теоретических сторонах проблемы гражданского общества и правового государства, отсылают читателя к трудам Д. Локка. Именно Д. Локк является беспрекословным авторитетом в вопросах политической философии и для многих современных исследователей в области гражданского общества и правового государства» [10, с. 7].
Но в этой связи не можем не упомянуть и о наличии третьей точки зрения. Так, В.А. Бачинин и В.П. Сальников подчеркивают, что «гражданское общество представляет собой сложную, многомерную социальную целостность, которая, будучи открытой, самоорганизующейся системой естественно складывающихся социальных отношений между индивидами как частными лицами, активно обменивается веществом, энергией и информацией со своим главным контрагентом – государством. В гражданском обществе каждый человек предстает не как подданный государства, но как самоценный индивидуум, имеющий свои личные, частные жизненные цели, которые могут либо совпадать с интересами государства, либо противоречить им» [1, с. 133]. В качестве «души» общества государство для Гегеля есть, во-первых, тотальность, т.е. неразрывность и континуальность всех его членов, а, во-вторых, абсолютное самоопределение, т.е. самоопределение, не зависящее от внешних начал, а имеющее источник исключительно в себе самом. Эта самообоснованность составляет действительную субстанциальность государства.
В таком качестве государство выступает как одно, как единица. Поэтому оно подобно единому и единичному живому существу: «Идеализм, составляющий суверенитет, есть то же определение, по которому в животном организме его так называемые части суть не части, а члены, органические моменты, изоляция и для себя, пребывание которых есть болезнь» [3,
с. 317–318]. Эта субстанциальность, эта единичность, вытекающая из самой природы государства, и обозначается Гегелем как его суверенитет.
Слово «идеализм» означает здесь отнесенность к сфере идеального, которую Гегель противопоставлял сфере реального. Идеальное в его трактовке есть внутреннее содержание реального, но при этом такое содержание, которое само по себе активно, определяет реальное и проявляется в каждом его элементе как нечто снятое, но в тоже время сохраняющееся.
В государстве, таким образом, он усматривает два начала: духовное начало, выражающееся в его внутренней дифференциации и в связи с дифференцированным гражданским обществом; и начало жизни, души государства, которая делает возможным именно его целостность, воспроизводящая саму себя, т.е. суверенитет: «государство как духовное есть развертывание всех своих моментов, но единичность есть одновременно душевность и животворящий принцип, суверенитет, содержащий в себе все различия» [3, с. 316].
Суверенитет как такого рода единство и душа государства предполагает, что все функции государства могут иметь источник только в государственной власти и не могут быть частным достоянием отдельных лиц, сословий или корпораций. В последнем случае общество будет представлять собой не организм, а агрегат отдельных частей и не сможет называться государством в точном смысле этого слова. Поэтому для Гегеля средневековые политические образования, где царил всеобщий дух партикулярности, не являлись государствами в точном смысле этого слова. Суверенитет означает, что каждое правомочие имеет своей внутренней стороной государственную волю и интерес, которые составляют ее «идеальность» в указанном выше смысле.
Исходя из этого положения, отмечал Гегель, легко впасть в заблуждение, полагая, что суверенитет означает возможность творить любой произвол от имени государства, поскольку оно суверенно в своих действиях и функциях. Такому подходу немецкий философ противопоставляет идею права, именно в праве усматривая то разумное начало, которое придает позитивную направленность всевластию суверенитета. Правовой характер государства, по Гегелю, является, таким образом, необходимым моментом его суверенности.
В таком случае суверенитет может пониматься как выражение субъективности государственной власти. Но эта субъективность нуждается в персонификации. Такой персонификацией субъективности гражданского общества для Гегеля являлся судья. Персонификацию же суверенитета государства он связывает с образом монарха: «Но личность и субъективность вообще в качестве бесконечного, соотносящего себя с собой, обладает, далее, истиной, причем своей ближайшей, непосредственной истиной, как лицо, для себя сущий субъект, а для себя сущее есть также просто одно. Личность государства действительна только как лицо, как монарх. Личность служит выражением понятия как такового, лицо содержит одновременно его действительность, и лишь с этим определением понятие есть идея, истина» [3, с. 319].
При этом, по Гегелю, власть монарха будет властью суверена только в том случае, если она осуществляется в правовом контексте и ограничена правом и общественным представительством. Только конституционная монархия может быть связана с идеей суверенитета. Если внимательно присмотреться к гегелевской трактовке полномочий и прав монарха, то мы увидим, что за некоторыми исключениями (например, наследственность власти) его монарх полностью укладывается в современное общее понятие главы государства. Так что трактовка Гегелем соотношения суверенитета и суверена имеет не только историческое, но и актуальное значение.
Несколько в ином аспекте, чем «суверенитет, направленный во внутрь», Гегель характеризует «суверенитет, направленный во-вне». В отношении других государств любое независимое государство должно признаваться суверенным, пусть даже внутри его господствует дух партикуляризма, и суверенитет не связал воедино функции и интересы всех граждан. Здесь повторяются те же принципы, которые мы находили в начале «Философии права», в раздела «Абстрактное право» и «Моральность», где трактовались межличностные отношения. Природа права и дух морали, как показал Гегель, требуют от нас относиться к другому человеку как к равной нам и свободной личности, независимо от того является ли этот человек значительным или ничтожным. Гегель в своей «Философии права» настаивал на том, что человек является субъектом права именно как абстрактная личность. Мы относимся к нему как к равному себе индивидууму не в силу его особых личностных качеств (глубины мышления, заслуг предков, цвета кожи и т.п.), а просто на основании того простого и совершенно абстрактного факта, что он является человеком. Именно отсюда вытекает формальная природа права. Отношение к человеку как к равному в силу присутствия у него конкретных качеств (например, трудолюбия) называется уважением, но это уже – категория морали, а не права. Другими словами, «в историческом плане необходимо различать естественные права, юридические права и права человека. Первоначально понятие «право» в основном и сводилось к естественным правам человека и по существу означало требование человека по отношению к действующей власти. По мере развития общества и государства появились специальные службы, рассчитанные на удовлетворение требований человека по отношению к государству, другим людям. Одновременно появилась и потребность в регулировании деятельности этих служб» [11, с. 6]. Суверенитет государства, появившись объективно и естественным путем, также стал правовым, т.е. параметры его определяются и защищаются правом в юридическом смысле.
Точно также суверенитет государства должен быть содержательным для самого народа, являющегося его источником, и совершенно формальным для внешнего ему субъекта: другого государства или личности, не являющейся его гражданином. Суверенитет народа для внешнего субъекта должен быть безотносительной и совершенно константной величиной, сознательно полагаемой абстракцией. Только так он может стать объектом формальных по своей природе правовых отношений. В противном случае суверенитет перестает быть элементом права и это открывает путь для радикально либеральной модели, предполагающей абстрактные права личности источником всякого права, включая и международное. В таком случае права личности получают приоритет перед правом национального суверенитета.
Если на межличностном уровне признание другого равным мне и свободным субъектом гарантируется принципами права и волей государства, то на уровне отношения суверенных государств, по Гегелю, таких гарантий быть не может. В отличие от Канта, более жестко различавшего народ и государство, Гегель видит в государстве само идеальное единство народа. А потому он не может разделить народный и государственный суверенитет и поставить над государством какое-либо надгосударственное образование или международное право.
Само понятие международного права Гегель считал ограниченным. Международное право, учил он, всегда основано на договорах, имеющих частное, не всеобщее значение: «Принцип международного права как всеобщего, которое в себе и для себя должно быть значимым в отношениях между государствами, состоит, в отличие от особенного содержания позитивных договоров, в том, что договоры, на которых основаны обязательства государств по отношению друг к другу, должны выполняться. Однако так как взаимоотношения государств основаны на принципе суверенности, то они в этом аспекте находятся в естественном состоянии по отношению друг к другу и их права имеют свою действительность не во всеобщей, конституированной над ними как власть, а в их особенной воле. Поэтому названное всеобщее определение остается долженствованием, и состояние между государствами колеблется между отношениями, находящимися в соответствии с договорами и с их снятием» [3, с. 365].
Примечательно, что продолжая это суждение, автор «Философии права» также вступает в полемику с Кантом: «Над государствами нет претора, в лучшем случае их отношения регулируются третейскими судьями и посредниками, да и то лишь от случая к случаю, т. е. согласно особенной воле. Кантовское представление о вечном мире, поддерживаемом союзом государств, который способен уладить любые споры, устранить в качестве признаваемой каждым отдельным государством власти всякие недоразумения и тем самым сделать невозможным решение их по-
средством войны, предполагает согласие государств, которое исходило бы из моральных, религиозных или любых других оснований и соображений, вообще — всегда из особенной суверенной воли ж вследствие этого оставалось бы зависимым от случайности» [3, с. 365].
Гегель всегда отстаивал идею абсолютной ценности государственного суверенитета. Государство в полной мере выявляет духовную природу общества, а потому над ним не может быть поставлена более высокая инстанция, которая бы несла в себе какое-либо более высокое содержание, чем то, которое заключает в себе государство. Полемизируя с Кантом, Гегель пишет: «Несколько государств, образуя союз, могут, правда, составить суд над другими государствами; между государствами могут возникнуть объединения, как, например, Священный союз, но эти союзы всегда только относительны и ограниченны, подобно вечному миру. Единственный абсолютный судья, который всегда выступает, и выступает против особенного, есть в себе и для себя сущий дух, выступающий во всемирной истории как всеобщее и как действующий род» [3, с. 285].
По Гегелю, высшим судом для суверенных государств является только сама всемирная история, обращение к которой оказывается высшим результатом философско-правового исследования. И философия права Гегеля может стать наиболее глубоким теоретическим основанием для современных правоведов, стремящихся сохранить представление о суверенитете как высшей социально-правовой ценности.
Суммируя сказанное, можно отметить, что в «Философии права» Гегеля развивает классическую трактовку понятия суверенитета, заложенную в творчестве Марсилия Падуанского и Жана Бодена [2; 7; 8]. Идея суверенитета раскрывается им как институциональное проявление субъективности государства, обеспечивающей целостность его органов и самодостаточность в отношении других государств. Гегелевская концепция суверенитета основана на понимании государства как «души» гражданского общества, а потому не предполагает различия народного и государственного суверенитетов. Суверенитет, по Гегелю, является высшей ценностью для государства и народа и исключает существование какой-либо высшей наднациональной (международной) инстанции над государством. В качестве таковой может быть признан только суд истории.
Гегелевской философией права завершается классический период развития политикоправовой мысли. Постклассический период второй половины XIX века характеризуется либо попытками более глубоко освоить и адаптировать результаты классической правовой мысли Канта, Фихте, Гегеля, либо, наоборот, решительно размежеваться с ними. В первом случае мы имеем дело с достаточно радикальными формами реинтерпретации классического наследия, которые, тем не менее, никогда не порывали с ним полностью. Здесь следует, прежде всего, назвать учение о государстве К.Г. Маркса и марксистов. Маркс, с одной стороны, постоянно подчеркивал свою преемственность с рационализмом гегелевской диалектикой. Работа «К критике гегелевской философии права. Введение» стала одним из первых систематических обращений Маркса к проблемам права. С другой стороны, Маркс стремился возродить материалистическую позицию в науке о природе, дополнив ее материалистическим пониманием истории. Ф. Энгельс в труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства» раскрывает историческую природу становления государства и историческую вариативность его основных форм. Соответственно и современная форма суверенного государства является не более, чем одной из его исторических, а потому преходящих, форм, связанных с классовой сущностью государства. Более того, в трактовке Маркса и марксистов законы исторического прогресса ведут к отмиранию государства и становлению надгосударственных форм самоуправления обществом, не связанным с традиционными формами суверенитета.
Иррационалистические тенденции классической философии права развивали в своих трудах представители «философии жизни»: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. Дильтей. Шопенгауэр предлагал проводить четкое различие между догосударственным состоянием человека, когда его отношения к другому определялись нормами морали, и государственное состояние, когда действуют нормы права. Государство стремится обуздать изначально присущую человеку «волю к жизни» [14, с. 618]. При этом государство не создает право, а лишь «охраняет» его. Соединение стремлений государства с защитой права от посягательств изнутри, с защитой от внешних посягательств определяет то состояние, которое в правовой теории принято обозначать как суверенитет. Суверенитет есть, таким образом, форма рационального ограничения изначально иррациональной воли к жизни.
Эти установки развивались на рубеже XIX–ХХ вв. в трудах ведущих немецких правоведов. Так, у Р. Сменда, например, государство понимается как «часть духовной действительности», которую следует активно переживать, однако рациональному истолкованию она не поддается [16, s. 18]. Государство создает своего рода «совокупность жизни» и поэтому для него будет вполне легитимным отклонение от конституционного порядка. Потому что суверенитет, как форма, непосредственно (хотя и отрицательным образом) связанная с волей к жизни, выше рациональных конституционных конструкций [16, s. 26].
По Э. Кауфманну, образование правовых понятий должно происходить в соответствии с институциональным методом, который исходил бы от отдельных правовых институтов и «воплощающегося в них этического содержания» [15, s. 2]. Этот метод Э. Кауфман стремился использовать в постановке вопроса о применении права: «Справедливое решение может вынести или оценить только суверенная справедливая личность. В этом нет никакого субъективизма, но лишь сознание факта, что справедливость – это нечто творческое, а не механическое применение жёстких абстрактных норм» [15, s. 20]. Тем самым под предлогом «содержательности» правовых норм и «суверенности» правоприменителя обосновывался волюнтаристский подход в законотворчестве и судебной практике.
Проблема суверенитета государства продолжала оставаться в центре внимания правоведов и в ХХ столетии. Представители всех основных школ правовой мысли давали ей различные интерпретации в зависимости от своих теоретических и методологических установок. Одни из наиболее глубоких трактовок мы найдем в работах Г. Кельзена, Г. Радбруха, Дж. Роулза и др.
Она еще более актуализировалась в современных условиях в связи с глобализационными процессами, протекающими в современном мире, которые вместе с позитивными изменениями для различных государств, очень часто влекут за собой и отрицательные проявления, в первую очередь для суверенитета государств [12]. Однако сегодня нам нужно учесть не только опыт ее классических трактовок, но и постклассических интерпретаций, которые в ХХ веке снова актуализировали проблемы аксиологического измерения понятия суверенитета, вопросы его источников, проблему возможных пределов.
Список литературы Идея суверенитета в философско-правовых и политико-правовых концепциях XIX века
- Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: монография / под ред. В.П. Сальникова. СПб.: Фонд «Университет», 2005. (Серия «Наука и общество»).
- Боден Ж. Шесть книг о государстве / Антология мировой правовой мысли. В 5-ти томах. Т. 2: Европа. V-XVII вв. М., 1999.
- Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990.
- Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов. СПб.: Наука, 1995.
- Кант И. Учение о праве / Соч. в 8 т. Т. 6. М., 1994.