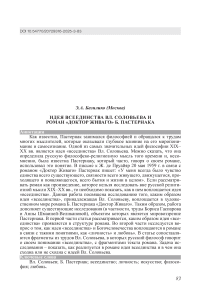Идея всеединства Вл. Соловьева и роман «Доктор Живаго» Б. Пастернака
Автор: Э.А. Базилико
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Как известно, Пастернак занимался философией и обращался к трудам многих мыслителей, которые оказывали глубокое влияние на его миропонимание и самосознание. Одной из самых значительных идей философии XIX– XX вв. является идея «всеединства» Вл. Соловьева. Можно сказать, что она определила русскую философско-религиозную мысль того времени и, несомненно, была известна Пастернаку, который часто, говоря о своем романе, использовал это понятие. В письме к Ж. де Пруайяр 20 мая 1959 г. в связи с романом «Доктор Живаго» Пастернак пишет: « У меня всегда было чувство единства всего существующего, связности всего живущего, движущегося, проходящего и появляющегося, всего бытия и жизни в целом». Если рассматривать роман как произведение, которое нельзя исследовать вне русской религиозной мысли XIX–XX вв., то необходимо показать, как в нем воплощается идея «всеединства». Данная работа посвящена исследованию того, каким образом идея «всеединства», принадлежащая Вл. Соловьеву, воплощается в художественном мире романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». Таким образом, работа дополняет существующие исследования (в частности, труды Бориса Гаспарова и Анны Шмаиной-Великановой), объектом которых является мировоззрение Пастернака. В первой части статьи рассматривается, каким образом идея «всеединства» проявляется в структуре романа. Во второй части исследуется вопрос о том, как идеи «всеединства» и Богочеловечества воплощаются в романе в связи с такими понятиями, как «личность» и любовь». В статье сопоставляются фрагменты из трудов Вл. Соловьева, в которых русский философ говорит о своем понимании «всеединства», с фрагментами текста романа. Задача исследования – показать, как реализуется в романе идея всеединства и в чем она сходна или не сходна с идеей Вл. Соловьева.
Вл. Соловьев, Б. Пастернак, всеединство, личность, искусство, философия, любовь
Короткий адрес: https://sciup.org/149149378
IDR: 149149378 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-83
Текст научной статьи Идея всеединства Вл. Соловьева и роман «Доктор Живаго» Б. Пастернака
V. Solov’ev; Pasternak; Unitotality; personality; art; philosophy; love.
[Жизни] целостность – явочного порядка.
(Борис Пастернак) [Pasternak 1989–1992, 159]
Владимир Соловьев в работе «Общий смысл искусства» дает определение такого понятия, как «всеединство». Приведем его:
…во-первых, частные элементы не исключают друг друга, а, напротив, взаимно полагают себя один в другом, солидарны между собою… во-вторых, они не исключают целого, а утверждают свое частное бытие на единой всеобщей основе… наконец, в-третьих, эта всеединая основа или абсолютное начало не подавляет и не поглощает частных элементов, а, раскрывая себя в них, дает им полный простор в себе [Соловьев 1966–1969, III, 124].
Таким образом, Соловьев видит в основе мироздания идею всеединства – как первопричину и предельную причину всего бытия, Абсолюта. При этом каждый элемент является частью высшей реальности, вечного замысла Бога, желающего утверждения каждого элемента, а не их уничтожения. Этот принцип в философии Соловьева тесно связан с идей Соборности. Это значит, что если рассматривать и человечество как Абсолют, то оно стремится к утверждению каждой своей отдельной части, то есть каждой отдельной личности. Соборность является, по мнению философа, «свободным согласием на единство» и актуализуется «в форме свободной общинности», «солидарности».
Соловьев развивает свою мысль о всеединстве и соборности таким образом: идея всеединства и соборности реализуются в полной мере через искусство. Это возможно именно потому, что художнику удается восстановить ту первоначальную связь, которая изначально существует между целым и его отдельными частями:
Осуществление всеединства во внешней действительности, его реализация или воплощение в области чувствуемого, материального бытия есть абсолютная красота. Так как эта реализация всеединства еще не дана в нашей действительности, в мире человеческом и природном, а только совершается здесь, и притом совершается посредством нас самих, то она является задачею для человечества, и исполнение ее есть искусство [Соловьев 1966–1969, II, 355].
Обратимся к творчеству Б. Пастернака, так как главный герой его романа «Доктор Живаго» – поэт. Пастернак писал: «У меня всегда было чувство единства всего существующего, связности всего живущего, движущегося, проходящего и появляющегося, всего бытия и жизни в целом» [Пастернак 1989–1992, V, 289]. Об этом же пишет И.В. Романова в исследовании «Поэтика Иосифа Бродского, Лирика с коммуникативной точки зрения». Она приходит к такому выводу: по Пастернаку, творчество рождается только тогда, когда поэт начинается чувствовать связь со всем существующим и единство всех проявлений жизни. Вспомним, что эта идея уже была сформулирована у Пастернака в «Охранной Грамоте»:
Я узнал далее, какой синкретизм сопутствует расцвету мастерства, когда при достигнутом тождестве художника и живописной стихии становится невозможным сказать, кто из троих и в чью пользу проявляет себя всего деятельнее на полотне – исполнитель, исполненное или предмет исполненья [Пастернак 1989–1992, IV, 207].
Как пишет И.В. Романова, только в эпосе – в романе «Доктор Живаго» – данная идея всеединства всего сущего находит свое полное выражение. Обратимся к тексту романа:
Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одно в другое чувства счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь [Пастернак 1989–1992, III, 16–17].
Как говорит сам Пастернак, это «ощущение связности» является принципом написания романа, тот способ видения мира, из которого родился сам роман. Романова в своей работе полагает, что понятие всеединства, данное Вл. Соловьевым, повлияло на мировоззрение Пастернака и стало важной идейной составляющей его романа.
Так, если этот принцип видения мира Пастернак унаследовал от Соловьева, то каким образом это мировоззрение проявлено в художественном пространстве романа?
Романова предполагает, что в романе «Доктор Живаго» «автогенные персонажи реализуют в себе, в своих отношениях друг с другом, прежде всего, и с окружающим идею всеединства. Они как бы перетекают в своем сознании друг друга» [Романова 2007, 121]. Исследовательница говорит, что таким образом пишутся иконы, именно так на иконе изображает проявление Бога в мире, Его соединение с людьми. Так, если в иконописи мы видим изображение соборного человечества, то точно так же Соловьев говорит о реализации связи с Богом у человека в идее соборности. Сусанна Витт пишет о том, что роман Пастернака был написан так же, как пишутся иконы: «Some elements in the description can be connected with the technical aspects of icon painting» [Witt 2007, 43]. Структура романа Пастернака имеет то же единство и ту же слитность персонажей, как изображаются фигуры на иконах. Исследовательница описывает это так: «…a strong emphasis on the visual aspects of creating, and a couple of elements that can more specifically be linked to icon painting» [Witt 2007, 38]. По мнению С. Витт, стихотворение Пастернака «Сказка» подобно иконе «Чудо св. Георгия о змие», а стихотворение «Рождественская звезда» – иконе «Рождество Христово».
Идея всеединства и соборности включает в себя очень важный компонент – это понятие судьбы каждого элемента в утверждение другого, ради утверждения себя. Каждый элемент утверждается только ради утверждения другого, и все утверждаются только ради утверждения чего-то высшего, чего-то, что находится «после», «за» каждым элементом. А.И. Шмайна-Велика-нова в своих исследованиях о христианстве Пастернака показывает, как роман Пастернака «открывается» и «отворачивается» от себя, стремясь к послетек-стовой истории, к послероманному будущему человечества и России:
Пастернаковская проза (в первую очередь роман, а в какой-то мере и все ранние сочинения) тоже построена как пролог, или становящееся начало. Он сам писал, что первая часть романа будет лишь вступлением ко второй, менее обыкновенной. Более того, в эпилоге выясняется, что книжка Юрьевых писаний (т.е., в сущности, роман «Доктор Живаго») сама есть обещание и предвестие новой эпохи свободы [Шмайна-Великанова 2000, 220].
Вспомним слова в конце романа:
Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нем находятся. Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за доживших до этого вечера участников этой истории и их детей проникало их и охватывало неслышною музыкой счастья, разлившейся далеко кругом [Пастернак 1989–1992, III, 456].
Так, каждый элемент текста, как и сам текст в целом, отсылает читателя к будущему времени. Совпадения, встречи, переклички, как основа построения системы персонажей, не просто показывают «единство» или «сцепленность»
всего сущего, но также воплощают «реальность Промысла, это <…> единая творческая лепка – воля Божия» [Шмайна-Великанова 2000, 224]. Промысл или «Волю Божию» Пастернак представляет как связь всего сущего.
Борис Гаспаров пишет о том, как текст романа, со всеми своими линями, построен как музыкальный контрапункт: все его линии совпадают и переплетаются в одну главную линию, которая не соответствует обычному ходу времени, и соответственно преодолевает время, его побеждает, и побеждает смерть, так что задача романа является победой над смертью [Гаспаров 1993, 247].
В романе «Доктор Живаго» мы можем сравнить концепцию всеединства, которую излагает Веденяпин, с мыслями Живаго. Они оба понимают жизнь как единое и целое . Обратимся к тексту. Юрий говорит Анне Ивановне : «Но все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях» [Пастернак 1989–1992, III, 69].
Выражение «одна и та же жизнь» означает жизнь, неотделимую от себя, неделимую на части, единую . Эту мысль Живаго продолжает и далее в романе: «… только жизнь, похожая на жизнь окружающих и среди нее бесследно тонущая, есть жизнь настоящая» [Пастернак 1989–1992, III, 174].
Тут говорится о жизни такого человека, который живет в единении со всеми другими людьми.
Эти мысли о жизни Юрия близки тому, что ранее говорил его дядя, Николай Николаевич Веденяпин:
До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна [Пастернак 1989–1992, III, 13].
После долгой разлуки Николай Николаевич и Юрий встречаются снова:
Встретились два творческих характера, связанные семейным родством, и хотя встало и второй жизнью зажило минувшее, нахлынули воспоминания и всплыли на поверхность обстоятельства, происшедшие за время разлуки, но едва лишь речь зашла о главном, о вещах, известных людям созидательного склада, как исчезли все связи, кроме этой единственной, не стало ни дяди, ни племянника, ни разницы в возрасте, а только осталась близость стихии со стихией, энергии с энергией, начала и начала [Пастернак 1989–1992, III, 174].
Понимание обоими, дядей и племянником, жизни как целого позволило им почувствовать себя в стихии всеединства. Именно в этом оба обнаруживают не просто близость религиозно-философских взглядов, а творческую объединенность. Для обоих жизнь представляется жизнь целой не делимой на части. Таким образом, за обоими стоит не просто религиозная философия, но соловьевская идея всеединства.
В продолжение идеи о всеобщем единства Живаго говорит:
Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя может быть и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовав- шие ее духа, души ее. Для них существование это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий [Пастернак 1989–1992, III, 330].
Эту концепцию Пастернак унаследовал от Блока. В его «Стихах о Прекрасной даме» есть мотив всеединства как интуиции. По Блоку, сама жизнь сильнее всяких человеческих расчетов, потому что все в ней связано и едино. Так, в одном из стихотворений мы читаем:
Все бытие и сущее согласно В великой, непрестанной тишине. Смотри туда участно, безучастно, – Мне все равно – вселенная во мне.
То, что у Пастернака сначала было некоторым переживанием, позже в его романе «Доктор Живаго» стало концепцией героев. Пастернак говорит о романе:
Я бы представил себе (выражаясь метафорически), что видел природу и вселенную не как картину на недвижной стене, но как красочный полотняный тент или занавес в воздухе, который беспрестанно колеблется, раздувается и полощется на каком-то невещественном, неведомом и непознаваемом ветру. <…> всегда я воспринимал целое – реальность как таковую – как внезапное, дошедшее до меня послание, неожиданное пришествие, желанное прибытие и всегда старался воспроизвести эту черту чего-то посланного и нацеленного, которую, как мне казалось, находил в природе явлений [Пастернак 1989–1992, V, 572].
Вл. Соловьев говорит о «всеединстве» как удалении границы между су-бьектом и объектом, как о единстве человека и мира, в котором он живет. По мнению Соловьева, человек после грехопадения потерял свою связь с миром, но он является тем единственным существом, который способен восстановить ее, и это восстановление является возможным только через его «сознание». Сознание является тем внутреннем отделом у человека, способным удалить границы между «Эго» и миром. Эту концепцию сознания можно найти в романе Пастернака. Юрий Живаго говорит Анной Ивановной до ее смерти:
Чем вы себя помните, какую часть сознавали из своего состава? Свои почки, печень, сосуды? Нет, сколько ни припомните, вы всегда заставали себя в наружном, деятельном проявлении, в делах ваших рук, в семье, в других. Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душою вашим бессмертием, вашей жизнью в других. В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего [Пастернак 1989–1992, III, 69–70].
Так, сознание никогда не является чем-то обращающимся к себе, а всегда обращено вовне. В том же самом месте в романе читаем:
Сознание – свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Сознание это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь и случится катастрофа [Пастернак 1989–1992, III, 69].
Пастернак показывает, что реализация принципа всеединства возможна только в том случае, если человек является «личностью». Эта концепция индивидуума есть новая концепция, способная представить человека как существо, которому дана возможность освободиться от самого себя, не теряя при этом своего единственного и своеобразного характера. Этот новый принцип понимания личности можно найти в романе «Доктора Живаго», и он является, на наш взгляд, его ведущей темой. В романе Миша Гордон говорит:
Когда оно говорило, в царстве Божием нет эллина и иудея, только ли оно хотело сказать, что перед Богом все равны? Нет, для этого оно не требовалось, это знали до него философы Греции, римские моралисты, пророки Ветхого завета. Но оно говорило: в том сердцем задуманном новом способе существования и новом виде общения, которое называется царством Божиим, нет народов, есть личности [Пастернак 1989–1992, III, 124].
Можно сказать, что эта концепция у Пастернака рождается ранее (доклад «Символизм и Бессмертия» 1912 г.) и получает художественное воплощение в романе «Доктор Живаго». Пастернак понимает индивид как целостное существо, составленное из разных планов и разных «отдельных актов и со стояний», но при этом внутренняя структура отдельной личности соединена с целым миром. Именно это позволяет каждому «частному» элементу сочетаться и сотрудничать с другим, исключая любое уклонение одного от другого.
В философии Соловьева человек является религиозным «существом» в своей основе. Человек – это то суще ство, которое восстанавливает, возобновляет, связь человека с измерением «божественного». Происхождение этого измерения находится не вне человека, подобно далекому идеалу, к которому человек должен прийти с усилиями и жертвами. Напротив, оно находится как в его внутреннем мире, так и в основе реальности и самого существования. Задача человека – восстановить связь с этим конститутивным элементом.
В романе Пастернака мы видим, что он, избрав в качестве фамилии главного героя своего романа «Живаго», слово, происходящее от выражения «сын Бога Живаго», «сын Бога Живаго», (или Жизни), где «Живой» означает «таинственное» имя Бога, хотел подчеркнуть необходимость приблизить «божественную часть» к человеку.
Поэтому его творчество вдохновлено необходимостью привнести в повседневную жизнь «божественное» измерение, а не низводить его до простой догмы или морали, перед которыми человек должен преклонить колени. «Божественное» конфигурируется как нечто живое, реальное и осязаемое, идущее рука об руку с бытием человека. Если божественное составляет основу чело- века, то ему – при предварительном согласии жить в тесном контакте со своим собственным фундаментальным измерением – предоставляется возможность сделать его тем тоном, который ритмизирует его дни.
Что Соловьев подразумевает, говоря о человеке и о его связи с Богом?
Если в позитивистских и психологических исследованиях Эго является центром человеческого существования, то философские исследования Вл. Соловьева направлены на поиски того, что есть человек, его центр, при этом Соловьев не ограничивается отождествлением «Я» с одной из бесконечных «частных» сторон человеческого бытия. Он пишет:
Таким образом, признавая вообще существование нашего духа, мы должны признать, что он имеет первоначальное субстанциальное бытие независимо от своего частного обнаружения или проявления в ряде раздельных актов и состояний, <…>. В этой первоначальной глубине лежат и корни того, что мы называем собою или нашим я… [Соловьев 1911–1914, 68].
Эго является «частным обнаружением или проявлением в ряде раздельных актов и состояний» личности, но оно, конечно, не является «конечным» центром человека. В основании человека лежит тот самый «религиозный» фундамент, то «первоначальное субстанциальное бытие», о котором говорит Соловьев.
Чтобы лучше понять эту предельную основу, необходимо принять, что она не исключает индивидуальности, а, наоборот, только благодаря ей «человек», «индивидуум» может проявить себя во всей своей полноте и своеобразии. В случае если бы человек был лишен этой основы и «человек» стал бы конечным центром человека, он остался бы рабом самого себя, неспособным наблюдать за тем, что происходит вокруг него. Когда же, наоборот, «человек» озаряется светом «субстанциального бытия», индивид становится полностью самим собой, не осуществляя при этом подмену этого «себя» на «центр мироздания». Эта концепция индивидуума есть новая концепция, способная представить человека как существо, которому дана возможность освободиться от самого себя, не теряя при этом своего единственного и своеобразного характера. Человек, понять таким образом и есть человек, в котором осуществляется «всеединство» и «Богочеловечество».
Этот новый способ понимания личности у Пастернака отражается в романе. Здесь личность понята как целое, он говорит о «равенстве Бога и личности» [Пастернак 1989–1992, III, 124]. Именно так отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной. Как говорится в одном песнопении на Благовещение, Адам хотел стать Богом и ошибся, не стал им, а теперь Бог становится Человеком, чтобы сделать Адама Богом («человек бывает Бог, да Бога Адама соделает») [Пастернак 1989–1992, III, 226]. Личность мыслится, по Соловьеву и Пастернаку, как целостное существо, составленное из разных планов и разных «отдельных актов и состояний», но внутренняя структура личности соединена целостной, неразрывной связью, позволяющей каждому «частному» элементу сочетаться и сотрудничать с другим, исключая любое уклонение одного от другого. Концепция всеединства, примененная к внутреннему миру человека, дает понять, что чем больше в нем достигается равновесие между его собственной личностью с его собственными специфическими характеристиками (субъективностью), и его универсальным характером, «божественным основанием», тем более он является человеком. Отсутствие одного из этих двух элементов или уклонение одного от другого привело бы, с одной стороны, к безличному существу без индивидуальных особенностей, а с другой стороны, – к существу, заключенному в собственной субъективности, расщепленному и разделенному, неспособному освободиться от указанного раскола. В сочинении Пастернака «Что такое человек» это выражено с большой ясностью. Он пишет: «Каждый человек, каждый в отдельности единствен и неповторим. Потому что целый мир заключен в его совести» [Пастернак 1989–1992, III, 389]; «...какую стройность вложил Бог в жизнь каждого, почти как бы выстроив из нее Церковь Себе» [Пастернак 1989–1992, III, 211].
Сделаем следующий шаг в наших рассуждениях. Целостность личности, о которой говорит Соловьев, есть не только та сторона, которая лежит в ее основе, но и единственная сторона, позволяющая человеку воссоздавать и восстанавливать ту связь, которую он поддерживает с окружающим миром:
Когда мы погрузимся в ту немую и неподвижную глубину, в которой мутный поток нашей действительности берет свое начало, не нарушая ее чистоты и покоя, – в этом родоначальном источнике нашей собственной духовной жизни мы внутренне соприкасаемся и с родоначальным источником жизни всеобщей, существенно познаем Бога как первоначало, или субстанцию всего, познаем Бога Отца [Соловьев 1911–1914, 46].
«Погружение» в себя, о котором говорит философ, не следует понимать так же, как то, что принято называть «самоанализом».
Мы уже видели, как эта идея отражается в романе Пастернака, когда мы говорили о значении сознании и соборности в «Докторе Живаго»: сознание всегда направлено вовне. Эта связь со всем, что нас окружает, лежит в основе поэтики, эстетики и философии Пастернака. Это отношение между познающим субъектом и познаваемым объектом, или, между человеком и миром, он определяет как отношение «тайной близости» (в подтверждение этого мы приводим лишь малую часть тех замечательных определений, которыми Пастернак характеризует эти отношения; вспомним такие примеры как название сборника: «Сестра моя жизнь», или фразу в Доктор Живаго : «Он чувствовал себя стоящим на равной ноге со вселенною» или строчку из стихотворения «Со мной, с моей свечою вровень / миры расцветшие висят»).
В стихотворение «Быть знаменитым некрасиво» написано: «ни единой долькой отступаться от лица», это значит доводить свою «неповторимость и единственность» до завершения, причем не «реализовать себя», а, напротив, освободиться от себя, чтобы полностью осмыслить «роль, которую человек играет и будет играть во вселенской драме», говоря словами Соловьева. Для Пастернака и Соловьева человек есть космическое существо (слова, которыми Пастернак открывает поэтическое приложение своего романа: «Я вышел на подмостки...»). Освободившись от самого себя, он входит в театр вселенной. Пастернак с предельной ясностью говорит об этом аспекте применительно к истории Иисуса в Гефсиманском саду, в которой Сын Божий решает исполнить волю Божию: «Я люблю твой замысел упрямый / И играть согласен эту роль. / Но сейчас идет другая драма / И на этот раз меня уволь / Но продуман распорядок действий, / И неотвратим конец пути» [Пастернак 1989–1992, III, 511].
Это решение исполнить свою «судьбу», изменить человеческий, уже «продуманный распорядок действий» не следует понимать как полагание на случай или судьбу, – нет, это отказ от точного замысла, желаемого вне человеческого существа, не потому, что он подавлен обстоятельствами, а потому, что человек есть космическое существо, существо, способное взаимодействовать с окружающими вещами и ведомое ими, как если бы это были следы, по которым он мог бы идти. (Вспомним здесь известное высказывание Пастернака о том, что поэт «ведет себя как предметы вокруг»). Так, в любви Юрия Живаго и Лары Антиповой она желала «больше того, что их окружало».
Пастернак и Соловьев понимают человека как существо «органическое», а не «механическое», в отличие от того, как понимают человека механицизм и позитивизм. Человек не статичное существо и не механическое существо, которое можно разложить на отдельные части, он существует как цельное движение , и это движение идет вперед, это эволюция. Это движение жизни, которое подчинено принципу, сформулированному так: «Все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях» [Пастернак 1989-1992, III, 69].
Представление о человеке как об органическом существе находит свое наивысшее воплощение в том видении истории, которое было свойственно Соловьеву. В силу того, что человек есть существо органическое, как органический процесс можно осмысливать и историю. Человек, свободный от самого себя, не желающий «ни единой долькой отступаться от лица» – выходит на сцену истории, подлинной истории, а не того, что обычно определяется как «общественное» или «социальное» движение. Для обоих мыслителей «история», понимаемая в этом смысле, «была основана Христом». Но не только: и у Пастернака, и у Соловьева история строится не как череда событий, следующих друг за другом, а как процесс, стремящийся к осуществлению любви (после эпохи паровоза наступит эпоха любви – скажет Пастернак). Осуществление эпохи торжества любви будет тем более возможно, чем больше человек сможет «освободиться от самоутверждения».
Тема любви в творчестве двух авторов, безусловно, идет рука об руку с темой истории. Вспомним, что в самом романе Пастернака упоминается работа Соловьева «Смысл любви», в связи с тем, что молодые в начале ХХ в. читали это произведение. В работе «Смысл любви» Соловьев говорит: «Есть только одна сила, которая может изнутри, в корне, подорвать эгоизм, и действительно его подрывает: именно любовь» и продолжает: «отношение одного к другому было полным и постоянным обменом, полным и постоянным утверждением себя в другом, совершенным взаимодействием и общением» [Соловьев 1966–1969, VIII, 328]. То, как Соловьев говорит о любви, соответствует тому, как говорит о ней Пастернак в романе, описывая связь, соединяющую двух его персонажей, Лару Антипову и Юрия Живаго: любовь «для них же – и в этом была их исключительность – мгновения, когда, подобно веянью вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни» [Пастернак 1989–1992, III, 378]. Такое понимание любви и для Соловьева является единственным, позволяющим «создание нового человека, действительное осуществление истинной человеческой индивидуальности» [Соловьев 1966–1969, VIII, 328].
Итак, в заключение скажем, что именно соловьевское понятие всеединства лежит в основание романа Пастернака «Доктор Живаго». Роман постро- ен как ориентация на будущее – на историю после событий, описанных в нем. Это судьба России, победа над смертью, свобода духа человека как свидетельство проявления идеи всеединства Вл. Соловьева и восстановления связи с Богом. В романе Пастернака получили художественное воплощение такие философские понятия Вл. Соловьева, как личность, история, любовь. Роман Пастернака можно определить словами Вл. Соловьева: в нем «всеединство совершается».