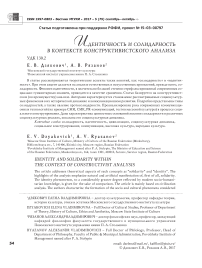Идентичность и солидарность в контексте конструктивистского анализа
Автор: Дзякович Елена Владимировна, Рязанов Александр Владимирович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия культуры
Статья в выпуске: 5 (79), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются теоретические аспекты таких понятий, как «солидарность» и «идентичность». При этом акцент делается на анализе естественных и искусственных проявлений, прежде всего, солидарности. Феномен идентичности, в значительно большей степени отрефлексированный современным социально-гуманитарным знанием, приводится в качестве сравнения. Статья базируется на конструктивистском (по преимуществу) анализе. Авторами характеризуется становление рассматриваемых социокультурных феноменов в их исторической динамике и коммуникационном развитии. Подробно представлены типы солидарностей, а также явление протосолидарности. Проанализирована роль современных коммуникационных технологий (на примере СМИ, СМК, PR-коммуникаций, тестов массовой культуры) в процессе социального конструирования. Дана характеристика ценностных оснований явления солидарности в различных социокультурных реалиях, показана его социокультурная динамика.
Солидарность, идентичность, цивилизация, социокультурная динамика, социальное конструирование, коммуникация, массовая культура, народная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/144160736
IDR: 144160736 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Идентичность и солидарность в контексте конструктивистского анализа
Понятие идентичности на протяжении ряда последних лет является весьма актуальным для социально-гуманитарного знания. Оно достаточно глубоко проанализировано с позиций философии, культурологии, психологии, социологии и ряда других наук – хотя нуждается в дальнейшей профессиональной рефлексии. При этом феномен солидарности зачастую остаётся за рамками исследовательского внимания. Вместе с тем солидарность – явление необходимое в жизни любого социума, без неё, без доверия и взаимопомощи, хотя бы в узком семейном кругу, трудно выживать людям. Не важно, о каком времени здесь идёт речь: во все времена она ценилась и была абсолютно необходима. В ранние времена она, как явление, возникала в процессе совместной трудовой деятельности людей. Представляется, что произошло это ранее, чем появилось слово, обозначающее это понятие. Дело в том, что схожее, по сути, явление есть и у многих коллективных животных. Очевидно, что оно существует у приматов, образовывающих систему конкурирующих между собой союзов внутри клана.
Такие союзы иногда называются коалициями. «Они выявлены, в частности, у разнообразных видов приматов (шимпанзе, павианов, японских макак, зелёных мартышек). Самцы-приматы часто “вступают в коалицию” для совместной защиты от самцов-доминатов или даже для обмана последних [7, с. 106]». В результате индивидуальные возможности и статус членов таких союзов в рамках их клана может меняться, удачливые особи, таким образом, могут менять их в лучшую сторону.
Такие протосолидарности возникают и распадаются стихийно, являются, скорее, инстинктивными нежели результатом сознательной деятельности. Однако перед соперниками извне и, тем более, врагами клан выступает как единое целое. Другими словами, эта протосолидарность перераспределяется между её агентами в зависимости от конфигурации ситуации. В некоторых случаях соперники внутри клана выступают единым фронтом против врагов (чужаков). Таким образом, существуют различные круги такой изначальной протосолидарности.
Явление солидарности представляется во многом инстинктивным и связанным с бессознательным. Однако с развитием, постепенно, доля сознательного должна была увеличиваться в направлении от бессознательного, через рост сознательного начала, к появлению сознательного её формирования и культивированию, а затем, на продвинутом этапе, к её имитации и симуляции.
Такая тенденция развития солидарности сопровождалась развитием и самого человека, ростом степени его индивидуализации, изменением баланса Я и Мы. По мнению Н. Элиаса, «данное понятие указывает на то, что соотношение Я-идентичности и Мы-идентичности у отдельного человека не задано раз и навсегда, а подвержено совершенно специфическим превращениям [8, с. 13]». В процессе этой балансировки меняется и сам человек, меняются и сами связанные с ним солидарности, и отношение человека к ним.
Из ранних типов солидарностей можно отметить этническую (групповую) солидарность. Она естественным образом складывается у представителей определённой этнической группы в процессе их взаимодействия с другими группами. Особенно это касается случаев, где происходит конкурентная борьба между ними за различные ресурсы. Вну- триэтническая солидарность выполняет несколько важных функций: 1) взаимной поддержки соплеменников; 2) участвует в передаче социального опыта младшим поколениям; 3) выполняет охранительную функцию для коммуникативной (духовной) безопасности и физической безопасности членов группы в ситуации контакта с представителями других групп; 4) служит сохранению группы в пространстве и во времени.
В свою очередь её формируют: 1) общий для этнической группы язык и картина мира; 2) общая для группы история и социальная память; 3) наличие общего коммуникативного пространства; 4) факт наличия конкурирующих групп в непосредственном окружении. Эту солидарность никто специально не формирует, она складывается естественным образом в процессе жизнедеятельности этнической группы. Это то, с чем человек сталкивается с самого начала жизни. Её формируют рассказы родителей, сказки, мифы, коммуникативные и поведенческие практики. На этой основе склады- ваются этнические ценности, оказывающие на формирование солидарности существенное влияние. Именно ценности составляют тот смысловой конструкт, который соединяет и скрепляет этнокультурные общности [5, с. 140]. «Одним из способов сохранения этнокультурных ценностей являются социально-психологическая граница и дистанция при общении с представителями других общностей – носителями иных ценностей [6, с. 68]».
Эти граница и дистанция сохраняют содержательную основу солидарности. Этому же способствуют внутриэтниче-ские коммуникации, представляющие собой самостоятельную ценность, так как именно в процессе их осуществления «индивидуальные носители этнического начала могут вновь и вновь хабитуализи-ровать традиционные для данного этноса внешние образцы поведения и поддерживать континуитет нравственных ценностей [6, с. 68]».
Представляется, что групповая (этническая) солидарность – одна из самых устойчивых, возникающих в результате естественного хода событий. Она специфична для каждой этнической группы, так как связана с её историей. Она имеет разную интенсивность и характер прояв- ления: есть группы с сильно выраженной внутриэтнической солидарностью, а есть и такие, у которых она выражена сравнительно слабо. Видимо, последние существовали в таких условиях, что особой необходимости в её появлении не было, хотя в том или ином виде она формироваться всё же была должна.
Солидарность национальных групп (государств) имеет уже отчасти искусственный характер формирования, хотя имеются и естественные её источники. «Поскольку коллектив каждого государства всегда экономически, социально, политически, культурно и статусно дифференцирован, то переход ряда функций первобытных этносов к органам государства уже с самого начала создал проблемную ситуацию в отношении этноса (основной части его демографического корпуса) к органам государственной власти и вообще к государству как таковому [1, с. 354]».
Так как подавляющее большинство государств многоэтничны, то перед их правительствами стояла цель интеграции разноплеменного населения в единое целое.
Каким образом это могло происходить практически, хорошо было показано Б. Андерсоном в работе «Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма [1]», выполненной на материалах постколониальных стран XVIII–XIX веков. Формирующиеся государства-нации для реализации этой цели активно использовали возможности получившей распространение печати (в виде газет), которая вольно или невольно «помогала» такому становлению. И «… пока капитализм со всё более возрастающей скоростью пре- образовывал средства физической и интеллектуальной коммуникации, интеллигенция стала находить способы, не прибегая к помощи печати, убедительно внушать веру в воображаемую общность не только неграмотным массам, но даже и грамотным массам, читающим на разных языках [1, с. 159]».
По мнению Н. Элиаса, «наиболее полная интеграция всех граждан со своим государством в условиях европейской многопартийности осуществилась лишь в XX веке [8, с. 289]». На этом этапе возникает необходимость сознательной работы по конструированию для единого государства общих мифов, культа героев-основателей, пропаганды желаемой для государства версии истории. Для этого происходит отбор «правильных» исторических деятелей, корректировка в нужную сторону биографий отобранных героев. В некоторых случаях это работа происходит интуитивно, методом проб и ошибок. Иногда же это хорошо продуманный и нужным образом выстроенный процесс, в котором принимают активное участие специалисты в различных областях гуманитарного знания.
На этом этапе возникают и находят своё применение PR-технологии, позволяющие адресно и эффективно продвигать в массы нужные коммуникативные потоки, с целью достижения необходимого для соответствующего центра интересов эффекта. Отбираются новые средства трансляции сообщений и новые формы подачи материала. В процессе работы подготавливается круг людей, имеющих навыки применения PR-технологий. Это уже работа с заранее планируемым эффектом. Эффективность применения коммуникативных технологий многократно усилилась с появлением новых СМИ и СМК.
Солидарности, создаваемые таким образом, носят виртуальный характер, но в результате формируются нужные соответствующему центру интересы и настроения. Реципиенты отвлекаются от других информационных потоков, люди агрегируются в «массу», при этом активно используется речевое манипулирование. В создании такой солидарности в рамках государства участие принимает властный дискурс, или дискурс, формируемый властью.
Последний следует понимать как «вербализацию определённой ментальности, или такой способ говорения и интерпретирования окружающей действительности, в результате которого не только специфическим образом отражается окружающий мир, но конструируется особая реальность, создаётся свой (присущий определённому социуму) способ видения мира, способ упорядочения действительности, реализуемый в самых разнообразных практиках [4, с. 22–23]».
Учитывая общее ослабление группой (этнической) солидарности, можно отметить стремление государства её «колонизировать», используя в своих целях её структурные элементы. Естественно, в данном случае речь идёт о наиболее многочисленных этнических группах. Хоро- шую помощь государству оказывают изменения, происходящие в открытых обществах, где распространена массовая культура и где этнические коммуникации вытеснены на периферию. А это, в ситуации роста степени индивидуализации, изменении баланса Я–Мы идентичности, ведёт к изменениям в социализации новых поколений.
По мнению А. В. Костиной, «индустриальный способ производства культурной продукции отнял у неё уникальность, заменив её дублированием, сериализацией, стандартизацией [2, с. 60]».
Массовая культура, при всём многообразии её функций и многоплановости самого явления, зачастую подменяет собой и имитирует народную культуру. Причём она может забирать у последней участников и делает из оставшихся зрителей, которые потребляют произведённый продукт. Аутентичная народная культура, таким образом, сокращает свою аудиторию, теряя своих потенциальных зрителей-участников. Прежде, в её рамках, каждый зритель мог быть потенциальным участником процесса. Однако современная массовая культура учитывает этот нюанс, и её агенты начали производство многочисленных шоу с непосредственным участием потребителей коммуникативных продуктов.
Массовая культура в советском варианте государства выполняла такую же роль, что и в большинстве развитых стран, – отвлечения и «массовизации», но особенно в первые годы своего существования продвигала идею классовой солидарности всех трудящихся. С этой целью государство творило новую революционную мифологию, формировало свой пантеон героев-революционеров, в том числе из рядовых участников процесса. Деятели культуры активно продвигали новояз (отсюда – эксперименты с языком в литературе и театре), новые коммуникативные практики, подчёркивавшие отличие новой пролетарской культуры от культуры старого мира, образцы нового быта, отчасти сохранившиеся в архитектуре.
Отработанная и отлаженная система организации современных СМК даёт возможность формировать и удерживать информационную повестку дня, централизованно распространять дискурс власти. Этническая память, генерирующая соответствующую солидарность, зачастую выступает этому явной помехой. Этот факт служит причиной сложных отношений между структурами государства и активистами, ориентированными на сохранение этнической памяти, а значит, и этнической солидарности. Государство использует этническую память как важный ресурс для своей поддержки (если в этом появляется необходимость).
Современность – время разворачивания процессов эмансипации индивидуума от всех видов коллективных идентичностей (и солидарностей), но такое «освобождение» оставляет его один на один с государством, за которым стоят искусные манипуляторы, остающиеся незаметными и пользующиеся полной свободой. Современное государство – это механизм осуществления скрытого господства, бенефициары, как правило, остаются скрытыми для публики. Между различными социальными группами с размытыми границами находится множество условно властных прослоек, которые обладают видимостью властных полномочий. «Но социальная дезинтеграция является как условием, так и результатом новой техники власти, использующей свободу и ускользание в качестве своих главных инструментов. Любая плотная сеть социальных обязательств, и особенно основанная на территориальном принципе, является препятствием, которое необходимо убрать в пути ... И именно состояние дезинтеграции, хруп- кости, уязвимости, быстротечности, “существования до дальнейших распоряжений” человеческих обязательств и сетей прежде всего позволяет этим силам выполнять свою работу [2, с. 21]».
В настоящее время групповая солидарность может формироваться с помощью СМК и часто является результатом сознательной работы профессионально подготовленных коммуникаторов. Так происходит и с формированием корпоративной солидарности, когда выстраивается и реализуется целая стратегия втягивания члена корпорации внутрь её структуры и последующей модификации системы ценностей субъекта под ценности и интересы корпорации. Различные круги солидарности сосуществуют друг с другом и образуют сети, которые могут носить и реально носят неожиданный и причудливый характер, так как в основе солидарностей лежат интересы конкретных людей. Переплетение таких солидарностей, как в формальной, так и в неформальной сфере, оказывает поддержку индивидуальным и коллективным субъектам в их повседневной практической деятельности.
В связи с этим возникает вопрос о соотношении понятий солидарности и идентичности. При ряде сходных с точки зрения на генезис, функции и позиции, можно выявить одно принципиальное различие. Если под феноменом идентичности понимать «присущее только человеку стремление увидеть в картине мира своё собственное отражение, а исторические формы и типы идентичности фиксируют способы адаптации и самоопределения исторического человека в окружающем его мире [3, с. 7]», то, следовательно, само понятие иден- тичности непосредственным образом «завязано» на целый комплекс коммуникативных проблем и процессов. Соответственно – понятие идентичности принципиально не может быть рассмотрено вне, условно говоря, «человеческого фактора». Именно эта степень осознанности собственной вовлечённости в многофакторный комплекс социально-коммуникативных условий является принципиальным отличительным маркером между солидарностью и идентичностью. Солидарность, таким образом, будучи в ряде случаев инстинктивной или не вполне осознаваемой, может быть присуща не только человеческому индивиду или социальной группе. Идентичность же (равно как и неразрывно связанное понятие самоидентификации) может быть присуща только человеку или человеческому сообществу, объединённому каким-либо общим признаком: этнокультурным, территориальным, профессиональным, гендерным, конфессиональным и другими.
В современных условиях, в ситуации широкого распространения новых коммуникативных технологий и практик их применения, гражданские (национальные) солидарности формируются главным образом искусственно. Это происходит с помощью профессионального управления коммуникативными потоками и контроля над средствами массовой коммуникации. В результате такой деятельности возникает эффект присут- ствия в соответствующем социокоммуни-кативном пространстве желаемого вида солидарности. Идентичность же (как укоренённость) в основе своей имеет глубинные культурно-исторические корни, трансформировать которые с помощью искусственного социального конструирования значительно сложнее. Идентичность подразумевает значительно большую степень сознательного начала, никоим образом несводимого к биологии или биосоциальным характеристикам, и может переживаться преимущественно личностно.
Список литературы Идентичность и солидарность в контексте конструктивистского анализа
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / пер. с англ. В. Г. Николаева. Москва: Канон-Пресс-Ц: Кучково поле, 2001. 286 с.
- Бауман З. Текучая современность / [пер. с англ. С. А. Комаров]. Москва [и др.]: Питер, 2008. 238 с.
- Ешич М. Б. Этнос и государство в современных процессах развития // Цивилизация. Восхождение и слом: Структурообразующие факторы и субъекты цивилизационного процесса / отв. ред. Э. В. Сайко. Москва: Наука, 2003.
- Костина А. В. Соотношение традиционности и творчества как основа социокультурной динамики. Москва: Либроком, 2010. 144 с.
- Малыгина И. В. В лабиринтах самоопределения: опыт рефлексии на тему этнокультурной идентичности. Москва: МГУКИ, 2005. 282 с.
- Михалева О. Л. Политический дискурс. Специфика манипулятивного воздействия. Москва: Либроком, 2013. 252 с.
- Почебут Л. Г. Психология социальных общностей (толпа, социум, этнос): автореф. дис. на соиск. учён. степ. доктора психологических наук: 19.00.05 / Почебут Людмила Георгиевна; Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург, 2003.
- Рязанов А. В. Этнос в коммуникативном пространстве социума / под ред. В. Н. Гасилина. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2007. 188 с.
- Шмерлина И. А. Биологические грани социальности: очерки о природных предпосылках социального поведения человека / Российская акад. наук, Ин-т социологии. Москва: URSS: Либроком, 2012. 195 с.
- Элиас Н. Общество индивидов = Die Gesellschaft der Individuen: пер. с нем. Москва: Праксис, 2001. 331 с.