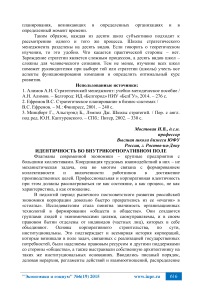Идентичность во внутрикорпоративном поле
Автор: Мостовая И.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Современные технологии управления организацией
Статья в выпуске: 6-1 (19), 2015 года.
Бесплатный доступ
Корпоративное развитие и изменение трудовых отношений тесно связаны с формированием социальной и профессоинальной идентичности работников. Для этогонужны специальные гуманитарные технологии.
Социальная и профессиональная идентичность, управление персоналом, корпоративные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/140114851
IDR: 140114851
Текст научной статьи Идентичность во внутрикорпоративном поле
Флагманы современной экономики – крупные предприятия с большими коллективами. Координация трудовых взаимодействий в них – не механистическая задача, она во многом связана с формированием коллективности и включенности работников в достижение производственных целей. Профессиональная и корпоративная идентичность при этом должны рассматриваться не как состояние, а как процесс, не как характеристика, а как отношение.
В недолгий период рыночного постсоветсткого развития российской экономики корпорации довольно быстро превратились из ее «очагов» в «столпы». Исследователям стала понятна значимость организационных технологий в формировании «обществ в обществе». Они создаются группами людей с экономическими целями, саомуправляемы, и в своем правовом бытии отделены от индивидов (частных лиц), которых в себе объединяют. Основы корпоративного строительства, по сути, институциональны. Это подтверждает и всемирная история корпораций, которые возникали в поле задач, связанных с реализацией государственных потребностей, были наделяемы правовым ресурсом и другими поддержками со стороны «общества», а также выстраивали собственную архитектонику на таких же институциональных основаниях. Вводились писаный порядок, деловая иерархия, регламенты действий и взаимоотношений, распределение ресурсов, правила кадрового обеспечения, планы-графики решения задач, контроля качества, условия снабжения и т.п. Отсюда и возникал целостный комплекс разнообразных элементов социально-группового строения, функциональные задачи которого могли разрастаться и видоизменяться в связи с расширением поля деятельности в пространственно-географических, производственно-сервисных, информационно-технологических и иных форматах.
Однако организационные технологии, лежащие в основе корпоративного строительства, с самых ранних этапов развития корпораций уже в обществах индустриальной эпохи, дополнялись и существенно опирались на гуманитарные технологии, укреплявшие корпоративную идентичность посредством осознанного инструментального воздействия на духовную, ментальную, нравственную, культурную и социальную сферу вовлеченных людей. Сплоченность и целеустремленность сотрудников корпорации, их мотивация к продуктивной деятельности достигалась посредством применения множества методов, в том числе формирующих специальную символическую платформу корпоративной идентичности. Аналитики этого процесса отмечают, что внешняя и внутренняя среда современных организаций насыщена социальными мифами, которые в значительной степени определяют жизнь этих современных организаций. Интериоризация символики и ее аксиологического наполнения при этом идет отнюдь не спонтанно, а с дирижистским участием менеджмента, который часто напористо – в ущерб качеству и гармоничности процесса – проводит запланированные процедуры аккультурации. Это, конечно, верно и в целом, как общий принцип, но в первую очередь должно быть отнесено к маргинальным контекстам, к условиям высокой динамики социальных изменений и непосредственно к молодым организациям.
Современный социальный мир становится все более изменчивым, текучим. Перемены затрагивают очень многие, в том числе институциональные, процессы, превращая прежде стабильные формы в зыбкие и распадающиеся. Меняется среда трудовых коллективов, структура производственного действия, и эти явления вызывают желание большинства участников сделать мир вновь стабильным, устойчивым и предсказуемым. Этого хотят руководящие группы, лидеры, которые имеют ресурсы и цели в области организации коллективной деятельности, но и сами группы, точнее, их члены, поскольку определенность их коллективного бытия тоже удобна и желательна: понятны правила, санкции, поощрения, формы одобряемого взаимодействия, цели, ожидаемые результаты.
Если говорить о последних десятилетиях развития России, то социальные метапроцессы и процессы непосредственно корпоративного строительства отражают очевидную специфику маргинальных влияний. Общество в целом с разрушенной идеологией и ценностной платформой социальных идентификаторов достаточно инерционно формирует новый идентификационный контур, при этом отдельные общественные группы и тем более оргструктуры корпоративного типа, где практически возможны пошаговые социально-технологические внедрения, относительно быстрее создают «причисления», и это подтверждено эмпирическими исследованиями. Так, в середине «нулевых» россияне более первостепенными считали свою принадлежность к профессиональной группе, общности по взглядам на жизнь и национальности, нежели идентификации со страной, и только к началу второго десятилетия XXI века российская идентичность начала первенствовать.
В этом смысле технологично взращиваемая корпоративная принадлежность в более или менее зрелом и развитом смысле как конкурентный ресурс формируется быстрее, чем идентичность, опирающаяся на гораздо более широкую культурную платформу. Это, безусловно, результат применения мобилизационных технологий, дающих скороспелый, но очевидный социально-экономический эффект. Инструменты нагнетания конфликта, противопоставления, мифологизации истории группы, формирования конструктивной системы ценностей (миссии), целей, планов и стимулов действуют без осечки и порождают более или менее выразительный социальный результат. Для организации корпоративного типа – это солидарность: сформированная групповая идентичность и кооперируемая деятельность, как следствие, порождающая экономический, производственный успех.
Наше общество и экономика прошли за четверть века большой институциональный путь, существенно изменились многие сферы жизни. Преобразование форм собственности, а вместе с ними моделей управления повлияли на отношения по труду, трудовой этос и индивидуальную мотивацию работников. Эти изменения разновекторные, решая одни задачи, они создавали и новые проблемы, которые в кризисный период развития обостряются и требуют новых подходов. Но на текущем этапе и регуляторы, и крупные производственные агенты солидарны в необходимости купирования социальных проблем, связанных с оплатой труда и сохранением рабочих мест. Всё вместе создает и потенциалы, и риски, которые будут своеобразно отыгрываться по мере изменения экономической ситуации.
Малые предприятия – структуры более гибкие в плане оборота и адаптации рабочей силы, в их структуре занятости часто высока доля неквалифицированных позиций, функциональное заполнение которых не затратно и проходит в форме инструктажа с последующей корректировкой ошибок, либо в форме текущего наставничества со стороны опытных работников. В небольших предприятиях цели деятельности большей частью очевидны и понятны работникам, взаимосвязь между конкретным трудом и коллективным продуктом тоже легко постижима, не нужны процедуры коллективного воодушевления, "накачки", заучивания "миссии", сверки с должностными инструкциями и расчета бонусных программ.
Однако, как мы уже отмечали, современное крупное и среднее производство в России к настоящему времени сложилось и существует большей частью в корпоративной форме, которой свойственны некие родовые черты, непосредственно влияющие на модель управления персоналом. Во-первых, чем крупнее комплекс предприятий, чем сложнее его узловая сеть, тем больше требований к управляемости в части стандартизации, унификации, прозрачности, мониторингу производственных показателей. Это приводит к объективной формализации всего поля отношений, включая отношения по труду, в которых нормотивируется расчет штатов, фондов и номиналов заработных плат, дополнительных денежных стимулов, детализируются должностные инструкции, разрабатываются и применяются показатели мониторинга трудовой эффективности и т.п.
Небольшой исследовательский проект (узко целевой, но довольно обширный по числу и страновому охвату изучаемых объектов), проведенный под моим руководством группой магистрантов Высшей школы бизнеса Южного федерального университета, показал, что в отдельных сегментах сервисной сферы к российским работникам предъявляют не только требования, связанные с профессиограммой: образованием, стажем, компетенциями – но и селекционирующие претензии к стилю одежды, внешнего оформления облика, вплоть до цветов в женском маникюре, коммуникативному поведению и характеристикам личных качеств. Это, безусловно, не правомерные требования, и они не предъявляются формально, но инструментально срабатывают и осознанно учитываются претендентами на рабочие вакансии таких предприятий и организаций. Данный пример не рассматривается как доказательный, но его можно считать косвенно подтверждающим институционально-ролевую установку владельцев и менеджеров крупных сетевых бизнесов, для которых работник – это производственный ресурс (точнее, его малая частица), используемый для достижения сиюминутной и проективной экономической эффективности предприятия, то есть для получения прибыли сейчас и развития брэнда в будущем. Эта грубоватая схематика, представляющая человека как "работника", и даже как производительного манекена, одетого в униформу или более изящно и разнообразно оформленный комплект, отражающий "корпоративный стиль", прагматично и, возможно, нелицеприятно отражает существо дела.
Во-вторых, помимо стандартизации и производственного мониторинга, корпоративная трудовая среда актуализирует функциональноролевые ипостаси работников, в пределе это приводит к насаждению и поощрению эталонных, "роботизированных" образцов, выхолащивающих подлинную эмоциональность, персональные проявления, подавляющих индивидуальные особенности психики, одевающих объемное и уникальное самосознание в ролевой кокон должностного субординированного самоконтроля. Отличный работник – это эффективный, производительный инструмент решения задач, а не источник проблем, его "человечность"
(личные проявления, эмоции) должна быть уместна и потому умело дозирована, она тоже дирижируется, превращаясь в элемент социальной игры. Главное – быть подлинным специалистом, уметь решать производственные задачи, управлять собой и своим поведением, поддерживать правила и ожидания в развитии рабочих взаимоотношений, не драматизировать возникающие осложнения и не впадать в эйфорию от успехов.
Молодой россиянин на рынке первичной занятости, и даже средний многоопытный работник со стажем к такому не готов. Эта неготовность инкорпорироваться (фактически "роботизироваться", превращаться в человека-функцию, удобно используемую в производстве) проявляется в разной степени и по-разному в разных аспектах. Помимо исключительной сосредоточенности на производственном важно вместе с корпоративной системой (чем она крупнее, объемнее, тем жестче проявляется принцип) объективировать себя как "пазл" коллектива. Включение функциональное и личное в малый трудовой коллектив, где происходит непосредственный обмен деятельностью – довольно трудная для многих задача, поэтому многие наши соотечественники не любят и боятся менять работу, интуитивно рассчитывая комплексные издержки по включению, принятию и закреплению на новом месте как рискованные или непосильные. Включение в большой трудовой коллектив требует самостоятельной адаптации, включая изучение формальных требований к поведению и неформальных правил, институциональных статусов и ролей, исполнительских практик и поддержания субординации; освоение имитационных форматов ролевого поведения и собственно идентификацию, т.е. интернализацию корпоративных навязываний.
При этом противоречивость и риски идентификационного процесса и для корпорации, и для работника очень велики. При всем желании и профессиональных умениях менеджеров насаждать корпоративные идеи и ценности палитра социальных и психотехнологий так многообразна и должна быть использована в кластере столь конкретных нестандартных производственных задач и меняющихся ситуаций, что предлагаемые ролевые макеты не всегда ориентируют работника правильно, и это затрудняет процесс самоидентификации, личного причисления человека к трудовому коллективу – при том, что профессиональная его идентичность может при этом быть уже сложившейся, зрелой.
Не менее проблемной может оказаться и другая сторона инкорпорирования – принятие трудовым коллективом, ингруппой. Здесь часто сталкиваются традиции и амбиции (с одной стороны групповые, с другой – индивидуальные); возникают диссонансы в профессиональном и личностном принятии; большую роль играет руководство процессом включения в группу со стороны представителей аппарата управления в непосредственном трудовом подразделении и кадровой политики в целом. Противоречия и разрушительные для идентичности элементы формирующихся в таком процессе отношений требуют, на наш взгляд, самостоятельного изучения и описания, а затем теоретического и учебного моделирования для освоения специальных техник преодоления возникающих проблем.
Исследователь социальной оргсреды А.В. Федорова обращается к взаимовлиянию моральной среды общества и корпоративной среды, где так или иначе сознательно задействованы механизмы внутриорганизационного конституирования групповой морали. Она выявляет, что здесь, внутри организаций, критично проявляется конфликт между культивируемой корпоративной моралью и маргинализацией морально-нравственных ориентиров, навязанной давлением общественного, довольно нездорового в целом, контекста. Речь идет о разочаровании социальных акторов – инсайдеров организаций – в «нормах и правилах» дореформенного и устанавливаемого социального порядка, отсутствии духовных лидеров и в целом системы морально-нравственных ориентиров, к которым сотрудники организаций испытывают социальное доверие, о легитимации криминальных социальных практик и конкретно коррупции. Противоречие гуманитарнотехнологического конструирования эффективной внутрикорпоративной среды и расслабляющего, или разлагающего, влияния амбивалентной общественной морали ослабляет потенциал организационной культуры. Нормативный конфликт, вероятный мотивационный конфликт, несопряженность легитимных и легальных моделей субъективного социального действия, несомненно, существенно понижает эффективность корпоративного конструирования.
В современной научной литературе делаются попытки как разрабатывать, так и концептуализировать знание гуманитарных технологий в целях формирования солидарностей достаточно высокого порядка, однако они порой представляют собой довольно экзотические построения, основанные на исключительных социальных предпосылках, в частности, модели общественного актора – «дальновидного гедониста» с присущей ему рациональностью и гомогенностью. Надо сказать, что многие исследования отнесены к области не корпоративного, а политического конструирования, со всеми свойственными особенностями, что позволяет анализировать и применять методологические принципы, но не дает возможность проводить социальные аналогии, поскольку гражданские сообщества и политические солидарности очень отличаются от корпоративных. Тем не менее, технологии институционального конструирования и формирования определенных векторов социокультурной среды продолжают рассматриваться и обобщаться, что облегчит в дальнейшем разработку теоретических приложений.
К сожалению, процесс инкорпорирования работника лишь отчасти сопровождается профессионально, специалистами, способными умело его корректировать, а чрезвычайно значимый процесс формирования корпоративной идентичности спотыкается на незнании, неумении, недоучете проблем и специальных техник включения в трудовой коллектив самого работника – то есть на несформированности у него соответствующих компетенций. Этот барьер заметен, и в то же время инструментально не обеспечен, поскольку не сформулированы соответствующие задачи. Ведь ситуации затруднений в формировании идентичности массовые, но распыленные и локализованные, их помогает стихийно преодолевать социальный опыт людей, включающихся в трудовые отношения. Однако попытки не только описать, но и "технологизировать" взгляд ученых и практиков на данную проблему, на наш взгляд, могут оказаться весьма востребованными и могут дать существенный прикладной эффект – особенно в период, когда качественные подходы и улучшения начинают играть существенную роль в повышении конкурентоспособности наших предприятий.
Социальная и профессиональная идентичность, управление персоналом, корпоративные отношения.
Корпоративное развитие и изменение трудовых отношений тесно связаны с формированием социальной и профессоинальной идентичности работников. Для этого нужны специальные гуманитарные технологии.
Social and professional identity, human resource management, corporate relations.
Corporate development and change of employment is closely related to the formation of social and professional identity of workers. To do this you need special humanitarian technologies.
"Экономика и социум" №6(19) 2015