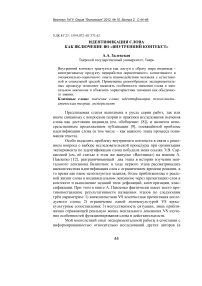Идентификация слова как включение во «внутренний контекст»
Автор: Залевская Александра Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и практики исследований
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Внутренний контекст трактуется как доступ к образу мира индивида – интегративному продукту переработки перцептивного, когнитивного и эмоционально-оценочного опыта взаимодействия человека с естественной и социальной средой. Применение разнообразных экспериментальных процедур позволяет выявлять особенности значения слова в ментальном лексиконе и объяснять характеристики значения как обыденного знания.
Значение слова, идентификация, психолингвистическая теория, эксперимент
Короткий адрес: https://sciup.org/146120977
IDR: 146120977 | УДК: 81’23:
Текст научной статьи Идентификация слова как включение во «внутренний контекст»
Предлагаемая статья выполнена в русле серии работ, так или иначе связанных с вопросами теории и практики исследования значения слова как достояния индивида (см. обобщение: [8]), и является непосредственным продолжением публикации [9], посвящённой проблеме идентификации слова (в том числе – как важного этапа процесса понимания текста).
Особо выделить проблему внутреннего контекста в связи с решением вопроса о выборе исследовательской процедуры при организации эксперимента по идентификации слова побудила меня ссылка Э.В. Саркисовой (см. её статью в этом же выпуске «Вестника») на мнение А. Павленко [12], разграничивающей два этапа в истории изучения ментального лексикона билингвов: в ходе первого этапа рассматривалась внеконтекстная идентификация слов с ограничением времени реакции, в то время как ныне используются задания, более приближенные к реальной жизни слова в индивидуальном лексиконе через презентацию слов в контексте и выполнение заданий типа дефиниций, категоризации, классификации. При этом в книге А. Павленко фактически имеет место противопоставление результативности названных этапов по следующим трём параметрам: 1) внеконтекстная VS контекстная презентация исследуемого слова; 2) ограничение одной лингвокультурой VS кросс-культурные сопоставления; 3) искусственность ситуации, лишь приближенно отражающей реальную жизнь ментального лексикона VS изучение особенностей функционирования слова в действительности.
Мой многолетний опыт экспериментальной работы в сочетании с информированностью относительно исследований других авторов (в том числе как отечественных, так и зарубежных) даёт основания для критики механистичности приведённых противопоставлений, поскольку на самом деле нельзя судить о результативности той или иной исследовательской процедуры вне её связи с теорией, обусловившей выбор именно той, а не иной экспериментальной методики; кросс-культурные исследования успешно проводились и в первый из выделенных А. Петренко периодов; любая экспериментальная ситуация лишь в какой-то мере будет приближенной к реальному функционированию слова в лексиконе, но её результативность зависит от того, что понимается под лексиконом (от этого, в частности, зависит, может ли исследование быть «чисто лингвистическим»), какие ближние задачи и дальние цели ставятся исследователем и т.д.
Представляется важным кратко остановиться на первом из приведённых противопоставлений с акцентированием роли теории в выборе технологии исследования.
Прежде всего следует определить, что именно понимается под контекстом, поскольку каждый термин должен функционировать в рамках соответствующего категориального поля (см. подробно: [8, с.61– 64]). В лингвистических исследованиях контекст трактуется следующим образом:
«КОНТЕКСТ (от лат. Contextus – соединение, связь) – фрагмент текста , включающий избранную для анализа единицу, необходимую и достаточную для определения значения этой единицы, являющегося непротиворечивым по отношению к общему смыслу данного текста» [11, с. 238].
Иной акцент (не на значении, а на функции) наблюдается в определении контекста, которое даётся в другом словаре [1, с. 51]: «Часть текста в его смысловом и/или формальном аспекте, необходимая для описания функций языковых единиц»; при этом уточняется:
«В расширенном смысле к. – это фон функционирования некоторой сущности, релевантный для её понимания. Контекст истории. Контекст ситуации. Экстралингвистический контекст » [цит. раб., с. 52].
Обратим внимание на то, что речь в данном случае идёт не о тексте , а о фоне , не о единице текста , а о некоторой сущности , т.е. имеет место не простое «расширение смысла», а фактический выход за рамки лингвистики.
Что же исследуется, когда в эксперименте предъявляется слово, трактуемое как единица ментального лексикона: единица текста или некоторая сущность? От чёткого ответа на этот вопрос зависит весь дальнейший ход рассуждений, однако главное при этом – понимание специфики ментального лексикона как такового (в сожалению, многие авторы используют словосочетание «ментальный лексикон» без какой либо дефиниции, при этом трудно догадаться – считают ли его общеизвестным и потому не требующим уточнения или просто затрудняются вербализовать свое понимание вкладываемого в это словосочетание значения).
Так, если исследователь понимает под этим индивидуальную память слов в том виде, в каком слово описывается в традиционных словарях и трактуется в лингвистических работах, то первое из приведённых определений контекста как фрагмента текста является вполне достаточным (уточню: достаточным, если всё исследование – от формулирования рабочей гипотезы и до конечной интерпретации полученных результатов – проводится в строгом соответствии с избранной системой исходных координат, в данном случае – принятой в соответствующем направлении лингвистических научных изысканий).
Если же ставится задача через слово (и с учётом двойной жизни значения, см. подробно [8, глава 1]) выйти на то, что лежит ЗА СЛОВОМ в ментальном лексиконе как функциональной динамической системе, обеспечивающей принципиальную возможность доступа к образу мира индивида, то в качестве контекста выступит фон для идентификации некоторой сущности, а именно – некоторая проекция голограммы образа мира, которая увязывается со словом, имеющим смысл только при наличии такого фона. Мало назвать такой фон «экстралингвистиче-ским знанием», необходимо понять специфику такого зна-ния/переживания – ЖИВОГО ЗНАНИЯ как достояния ЧЕЛОВЕКА, к тому же не просто HOMO LOQUENCE – «человека говорящего», но ИНДИВИДА (как представителя вида и как личности), познающего мир, чувствующего и эмоционально-оценочно помечающего всё воспринятое, в том числе и связанное со словом – важнейшим инструментом познания, общения, адаптации к естественной и социальной среде. В такой ситуации для носителя языка слово сливается с именуемой им вещью (вспомним высказывание Н.И. Жинкина о том, что слыша речь, мы думаем не о словах, а о действительности [2]).
Иначе говоря, если для лингвистики как науки в центре внимания вполне естественно и закономерно находится ИМЯ вещи, то для обычного носителя языка не менее естественно и закономерно главным оказывается имя ВЕЩИ (в широком смысле, т.е. речь идёт о любом объекте, действии, ситуации, качестве и т.д.). Но любая ВЕЩЬ существует не сама по себе, она не только представляет собой определённую сущность, но и имеет специфические признаки, выполняет те или иные функции, включена в какие-то необходимые или возможные ситуации, предполагающие как предшествующие условия, так и последующие следствия и т.д., а главное – любая ВЕЩЬ имеет некоторый СМЫСЛ, ту или иную значимость для индивида как личности, что переживается в плане соответствующей маркированности (обратим внимание на то, что «ни хорошо, ни плохо» – тоже определённая и вполне значимая метка).
Как бы то ни было, но идентификация слова как имени ВЕЩИ требует обращения к образу мира, вне которого слово остаётся «пустым».
Сказанное выше объясняет условность термина «изолированное слово» и то, в каком смысле, начиная с моих давних публикаций (см., например, [3-5]), ставится вопрос о важности учёта внутреннего контекста , в который немедленно включается любое идентифицируемое индивидом слово. С этой точки зрения дело обстоит следующим образом: предъявляемое в эксперименте «изолированное» слово фактически функционирует так, как любое первое слово воспринимаемого (письменного или устного) сообщения, не опирающегося на наличную ситуацию или не подготовленного предшествующим (кон)текстом. Тем самым создаётся уникальная возможность наличия условий для исследования реальной жизни значения слова в том или ином вр еменн ом ср ез е , когда ближайшим для актуализации оказывается внутренний контекст, обусловленный готовностью индивида к восприятию наиболее значимой в текущее время ситуации, а через это - для демонстрации динамики значения слова в том или ином направлении.
Изложенные представления о том, что лежит у индивида за с л о -в ом , вполне объясняют наблюдаемые со стороны или посредством рефлексии удивительные возможности слова, которое живо только тогда, когда мы его не просто знаем, а переживаем как слитое с продуктами переработки многообразного опыта и всегда включённое во множество связей и отношений, вне которых не может восприниматься и опознаваться окружающий нас физический и социокультурный мир. Для индивида в естественной обстановке изолированного слова не существует - даже услышанное без контекста оно неизбежно актуализирует некоторую ситуацию, представление об объекте и т.п. с расширяющимися кругами выводных знаний (см. описанную в моих работах спиралевидную модель идентификации слова и понимания текста), которые наше подсознание услужливо готовит к использованию в случае необходимости. При этом целостность человека (взаимодействие его тела и разума, невозможность отрыва продуктов перцептивных и когнитивных процессов от эмоционально-оценочных переживаний, постоянная опора на знание о том, как устроен мир, чего можно ожидать в той или иной ситуации, к чему могут привести те или иные действия и т.д.), постоянная включённость в те или иные естественные и социально-культурные «контексты» обеспечивают возможность удивительного и загадочного феномена эмержентности , благодаря которому возникает смысл , не являющийся простой суммой значений слов, посредством которых можно было бы описать некоторое событие.
Иначе говоря, главное при исследовании процесса идентификации - не сам по себе факт наличия или отсутствия у предъявляемого слова некоторого вербального (т.е. «материализованного», «внешнего»)
контекста в его традиционной трактовке, а ориентация на некоторый ожидаемый продукт: во втором случае это выявление действий и операций , обеспечивающих выход индивида на глубинные связи и отношения, образы и обобщения, признаки и признаки признаков объектов, ситуаций и т.п., благодаря им происходит идентификация слова как понима-ние/переживание смысла , на который указывает (или намекает) предъявленное в эксперименте слово.
Обратим внимание на то, что такая ориентация нацеливает на выявление именно глубинного ф она идентификации слова, а это непосредственно связано с моделированием актуализирующегося смысл о в ого поля , установлением его особенностей, что особенно ценно при межъязыковых/межкультурных сопоставлениях (см. подробно: [3; 5], а также статью Н.И. Кургановой в этом выпуске «Вестника»).
Выявление такого глубинного фона во всём многообразии его специфических характеристик выходит за рамки лингвистики и осуществляется в исследованиях, которые проводятся в русле психосемантики и психолингвистики. При этом используются разнообразные экспериментальные процедуры, в том числе с предъявлением испытуемым изолированного слова. Полезным для выявления специфики внутреннего контекста как инструмента идентификации значения слова может служить набор из пяти экспериментальных процедур, обеспечивающий психолингвистическое портретирование лексики и включающий два варианта метода ассоциативного эксперимента (свободный с записью одной реакции и направленный ассоциативный), субъективное шкалирование по 7-балльной шкале (от -3 до +3 с нулём в качестве срединного числового показателя), а также два варианта методики дефинирования (см. подробное описание: [6; 7; 10]).