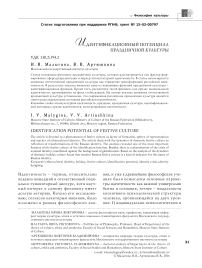Идентификационный потенциал праздничной культуры
Автор: Малыгина Ирина Викторовна, Артюшкина Виктория Владимировна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия культуры
Статья в выпуске: 6 (74), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена феномену праздничной культуры, которая рассматривается как фактор формирования сферы репрезентации и маркер этнокультурной идентичности. В статье анализируется динамика отечественной праздничной культуры как отражение трансформаций российской идентичности. В результате анализа выявлена одна из важнейших функций праздничной культуры -идентификационная функция. Кроме того, рассмотрен такой феномен, как кризис национальной идентичности, проявившийся на фоне глобализации. На основе анализа динамики отечественной праздничной культуры установлено, что современная российская праздничная культура является своего рода индикатором состояния российской идентичности.
Этнокультурная идентичность, праздник, праздничная культура, идентификационный потенциал, кризис идентичности, конструирование идентичности
Короткий адрес: https://sciup.org/144161057
IDR: 144161057 | УДК: 130.2:394.2
Текст научной статьи Идентификационный потенциал праздничной культуры
Идентичность – термин, относительно недавно вошедший в отечественный социально-гуманитарный дискурс, хотя научный интерес к самому феномену имеет долгую историю. Начало его исследованию, согласно некоторым мнениям, было положено в рамках философского зна- ния, и уже в древнейших философских учениях были осмыслены основные параметры идентичности как важной универсалии бытия и сознания, точнее – модальности когнитивно-психологической структуры человека, проявляющейся на двух уровнях: 1) индивидуально-психологическом и
-
2) социально-культурном [8].
«Открытие» социально-культурной природы идентичности составило фундаментальное основание последующих междисциплинарных исследований, в проблемном пространстве которых был синтезирован концепт социальной идентичности, включающий в своё содержание отождествление, эмоционально окрашенное осознание и переживание человеком своей принадлежности социуму, обусловленное психологической потребностью человека в социальной адаптации [9]. Природа этой потребности получила осмысление в психологических, в частности, психоаналитических теориях и объяснена стремлением к упорядочению представлений человека о своём месте в мире; подсознательным стремлением человека к преодолению разрыва первоначального синкрезиса, к обретению тождества с окружающим миром, которое достигается путём «партисипаци-онного переживания» единства с социальной группой.
Социальная идентичность может проявляться как в индивидуальной, так и в коллективной форме, воплощая, по выражению С. Хантингтона, «индивидуальный или групповой смысл себя [17]». Коллективная форма социальной идентичности формируется на уровне саморефлексии социума, фиксирует коллективные представления, переживания сопричастности определённой социальной группе и манифестируется посредством набора маркирующих признаков, с помощью которых общество в целом или его отдельные группы демонстрируют свои специфику и единство. Это язык, мифы, религия, идеология, обычаи, ритуалы и многое другое.
Активный интерес к исследованиям идентичности проявился в 60-е годы ХХ века в связи с повышением внимания к этнона-циональным процессам и явлениям, что привело к появлению многочисленных зарубежных и отечественных концепций «этничности», «идентитета», этнической или национальной идентичности.
В отечественной культурологии в последнее десятилетие утвердилось понятие «этнокультурная идентичность» и получила развитие её концепция, которая формируется на основе отождествления индивида с той или иной этнической и/или национальной культурой.
Осмысление содержания данного феномена и уточнение его структуры позволили исследователям определить этнокультурную идентичность как сложный социальнопсихологический феномен, содержание которого определяется синтезом следующих компонентов:
-
• чувственно-инстинктивного (комплекс чувств и эмоциональных переживаний по поводу принадлежности к «своей» этнокультурной общности);
-
• рационального (совокупность рефлексивных процессов, образующих этниче-ское/национальное самосознание);
-
• ментального (латентный, глубинный пласт этнокультурной идентичности, образуемый специфическими для данной культуры видением и восприятием мира).
В своей совокупности самосознание, чувства и ментальность формируют поведенческий аспект идентичности, который включает в себя различные исторически- и культурообусловленные формы репрезентации и манифестации принадлежности к данной этнокультурной общности (на индивидуальном уровне) и её единства и целостности (на коллективном уровне), самыми архаическими и устойчивыми из которых являются миф и ритуал [12].
Возможно, именно последнее обстоятельство позволяет рассматривать в качестве одного из актуальных факторов формирования и способа репрезентации этнокультурной идентичности праздник и праздничную культуру, по мнению М. М.
Бахтина – важнейшую первичную форму человеческой культуры, основу которых составляет ритуальный комплекс и «парти-сипационное» переживание1 [1].
В силу данного обстоятельства важнейшей функцией праздника и праздничной культуры в целом оказывается идентификационная функция – как возможность осознать и пережить свою принадлежность к той или иной этнокультурной целостности посредством манифестации общих с ней ценностей, символов, моделей поведения и т.д. В ритуальных праздничных действиях возникает эмоциональная связь, обеспечивающая их участникам чувство укоренённости и принадлежности, столь необходимое человеку переживание «и я этой силы частица».
Интерес к феномену праздничной культуры, как отмечают исследователи, повышается в периоды социальной нестабильности, переходности, кризисности, сопровождающиеся семантической динамикой культуры, трансформациями её ценностносимволических оснований, форм социального взаимодействия, кризисом идентичности, требующими обращения к тем культурным формам, которые обладают способностью к стабилизации этих процессов и снижению уровня социальной напряжённости [6].
Это мнение разделяет Г. Карпова, которая отмечает особую функциональную нагрузку праздничной культуры именно в переходные периоды жизни человека и общества, когда механизмы воспроизводства социальных структур ослабевают или трансформируются [5].
В связи с этим особого внимания заслуживает такой феномен, как кризис нацио- нальной идентичности, проявившийся на фоне глобализации.
Причины кризиса нуждаются в специальном изучении, но одна из них очевидна – это заметное ограничение влияния национальных государств в современном мире. Нации-государства всё реже борются за статус главных действующих лиц глобальных событий и всё чаще делегируют эти функции экономическим союзам, военнополитическим блокам, транснациональным корпорациям и т.д. Соответственно, в структуре социального самоопределения современного человека связь с национальным сообществом и культурой оказывается как никогда слабой [16].
Кризис национальной идентичности – общемировой тренд современности, но в России он обрёл специфические черты и особую остроту в силу целого ряда причин, одной из которых было не просто ослабление авторитета национального государства, а крах такой супердержавы, как Советский Союз [12].
Разрушение «советской» идентичности и формирование новых форм самоопределения новой постсоветской России происходили на фоне таких сложных социальнополитических, экономических и культурных событий, как «парад суверенитетов», дифференциация общества по имущественному признаку и формирование на рыхлом этнокультурном фоне «культуры бедных» и «культуры богатых», мировоззренческий конфликт поколений. Все эти процессы усиливали кризис идентичности и размывали основания социальной солидарности россиян.
Поиски новых оснований идентичности оформились в постсоветской России в две доминирующие тенденции, близкие по своей сути мировым процессам: с одной стороны, в сторону расширения границ и формирования нового наднационального (цивилизационного) уровня в её струк- туре; а с другой – в сторону актуализации традиционных локальных форм культуры и локальных же оснований идентичности. В целом ничего нового для России – всего лишь новый виток традиционного для отечественной культуры и самосознания противоречия между «западничеством» и «славянофильством», или, в современной лексике, глобализма и антиглобализма: противоречие между желанием утвердиться как органичной части западноевропейской цивилизации, с одной стороны, и стремлением сохранить самобытность российского пути и отечественной культуры – с другой.
Праздничная культура постсоветской России в значительной мере стала отражением данных процессов, в очередной раз подтвердив в качестве одной из базовых характеристику, на которую указал К. Жигульский, отметив: «Праздник – зеркало своей эпохи». По праздникам, которые создаёт или отбирает народ, как полагает польский исследователь, можно судить о политической, исторической и духовной жизни общества, «определить идеи, интересы и стремления самых различных её социальных слоёв [3, с. 14]».
Анализ динамики праздничной культуры может способствовать пониманию и прогнозированию трансформаций, которые происходят в идентичности россиян, поскольку праздник как специфическая форма ритуального действия хотя и «воспроизводит укоренившиеся в культуре смыслы», всё же подвергается модификациям «в контексте социальных изменений [5]».
Анализируя идентификационный потенциал праздничной культуры, необходимо учитывать ещё одну важную её особенность – внутреннюю антиномичность, на это указывал авторитетный отечественный исследователь А. И. Мазаев [7]. С одной стороны, праздничная культура модели- рует мир идеала и гармонии, а с другой – является средством реализации дискурса власти. Более того, «соседство с властью» имеет свои глубинные причины. Ведь авторитет религиозной и светской власти часто «оказывается размещённым примерно в тех же местах, что и праздник – на сакральном участке [7, с. 31–71]».
Как показывает история, каждая новая власть формирует собственную праздничную культуру, пытаясь вытеснить праздники предыдущей системы из социального поля. Новые праздники создавались для того, чтобы наполнить их новыми условностями и ценностями. Важное назначение праздника состояло в утверждении нового социального порядка и в решении идеологических задач новой власти.
Как известно, праздники в дореволюционной России носили преимущественно религиозный характер и служили средством формирования и воспроизводства системы ценностей, основанной на божественном авторитете и православной иден-тичности1. Как известно, самоидентифи-каты «русский» и «православный» на протяжении столетий использовались как смысловые эквиваленты. Монархическая власть имперской России опиралась на православие, но были и собственно «государственные» праздники. К их числу относились Новый год и так называемые Царские дни (восшествие на престол и коронация).
До 31 января 1918 года Россия, как известно, жила по юлианскому календарю, отставая на 14 дней от западного мира, который уже 400 лет жил по григорианскому. Поэтому в числе первоочередных задач новой советской власти была и задача установить более удобные отношения с западным миром. Уже 24 января 1918 года был принят декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря», благодаря которому жизнь государства не просто переносилась на четырнадцать дней вперёд, но и освобождалась от всех православных праздничных дат. Начался активный процесс внедрения праздников, необходимых новой власти. С помощью новой праздничной культуры происходило конструирование новой советской идентичности. Советский массовый праздник занял привилегированное место в арсенале пропагандистских средств новой власти. Как замечает Мальте Рольф, советский праздник стал одновременно служить средством интеграции и средством перековки сознания людей, внедрения в жизнь советских символов, ритуалов и риторики, так необходимых для того, чтобы сформировать новые ценностные установки общества [15, с. 112]. Одной из важнейших функций советских празднеств являлась ритуализация поведения масс в новом политико-идеологическом контексте, с помощью праздников осуществлялось конструирование новой идентичности, адекватной новому социальному порядку.
Посредством установления праздничного календаря и институционализации официальных праздников государство формировало коллективные представления о значимых для единства и целостности государства событиях.
В календаре праздников появляются даты, которые связаны с выдающимися достижениями советской науки. Например,
День космонавтики – один из самых значимых в России с точки зрения идентификационного потенциала. Подобные праздники стимулировали социальный оптимизм, устремлённость к будущим успехам, что придавало советской идентичности позитивную окраску, поскольку её основанием становились победы и достижения советского народа: победа идеалов социалистической революции, прорыв советского человека в космос, победа в Великой Отечественной войне. В 1965 году под давлением общественности возрождается празднование Дня Победы как общенародного государственного праздника: на Красной площади стали проводиться военные парады, в городах-героях были возведены монументальные мемориальные комплексы, в местах массовых захоронений и братских могил построены памятники и стелы. Тема войны наполняется новым ценностно-смысловым содержанием, постепенно обретая статус важнейшего образа национальной идентичности, по сути ставшего основной позитивной опорной точкой национального достоинства и самоуважения уже в постсоветский период российской истории. Статус и слава победителей – важное основание для высокой национальной самооценки и национальной консолидации [2]. Трудно не заметить, что 9 мая в России наше население делится только на «ветеранов войны» и «детей войны», а все остальные основания социальной дифференциации утрачивают своё значение и актуальность.
Постсоветский период был ознаменован качественными переменами в структуре и ценностно-смысловом наполнении праздничной культуры. Уже сейчас на страницах «Календаря событий» представлено более трёхсот праздников, отмечаемых в России. Государственными праздниками на сегодняшний день являются: Праздник весны и труда, День Победы, День России, День народного единства и неизменно популярные Новый год, День защитника Отечества и Международный женский день [18].
Современная российская праздничная культура является своего рода индикатором состояния российской идентичности. Оценивая современное состояние российской праздничной культуры, мы должны констатировать такие явления, как разрушение системы праздников и праздничных традиций, стимулирующее разрыв в процессах преемственности и ослабление культурного диалога поколений; разрушение единства социально-культурного пространства России; неопределённость статуса религиозной праздничной культуры; эклектичность новых праздников, неопределённость отношения россиян к советской праздничной культуре и её роли в социально-культурной динамике [13].
На повседневном уровне люди могут не придерживаться официальной праздничной культуры и наделить статусом «настоящих праздников» совершенно другие события. Этот процесс находит своё отражение и в современной России. Так, безусловный интерес для исследователей представляет феномен привнесённых извне праздников, лишённых каких бы то ни было культурных оснований на российской культурной почве: например, Хэллоуин, День святого Валентина, День святого Патрика. Широкое распространение и устойчивое бытование этих праздников в современной культуре россиян требуют пристального внимания со стороны культурологов, поскольку дают основания для самых разных объяснений и социокультурных прогнозов.
С одной стороны (и это было бы самым простым объяснением), речь идёт, возможно, о реализации такой важной черты праздничной культуры, как «карнава-лизация», со свойственными ей временным отказом от существующих социаль- ных норм и «переворачиванием» социальных иерархий [1]. Не только в известной концепции М. М. Бахтина, но и в большинстве авторитетных исследований праздничной культуры отмечается, что праздник – это выход за границы существующего социокультурного порядка, ситуация санкционирования культурой ею же самой установленных норм и ценностей; это «нырок в хаос, в саму стихию жизни», когда «общество высвобождается из навязанных норм, смеётся над своими богами, началами и законами – короче, упраздняет само себя [14, с. 25]».
С другой стороны, данные праздники могут свидетельствовать о своеобразной «сублимации» поисков идентичности в условиях кризиса традиционных для российского общества ценностей и размывания образов идентичности, в частности кризиса традиционной семьи (можно заметить, что День всех влюблённых – День святого Валентина, гораздо более популярен, чем День любви, семьи и верности, который очень медленно и с сомнительным успехом внедряется в современную российскую культуру); о забвении традиций народной культуры и отсутствии единых гражданских ценностей и идеалов и т.д.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что праздничная культура любого государства и народа является не только фактором формирования и средством конструирования, но и формой репрезентации этнокультурной идентичности. Изменения в структуре и ценностно-смысловом наполнении элементов праздничной культуры могут быть выразительными свидетельствами динамики или кризисных состояний этнокультурной идентичности, а потому должны быть постоянным объектом комплексных научных исследований в целях эффективного социального прогнозирования в сфере этнокультурных явлений и процессов.
Список литературы Идентификационный потенциал праздничной культуры
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Художественная литература, 1990. 543 с.
- Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов. Москва: Новое литературное обозрение; ВЦИОМ-А, 2004. 816 с.
- Жигульский К. Праздник и культура: Праздники старые и новые. Размышления социолога: [пер. с польского] / [вступ. ст. А. И. Арнольдова]. Москва: Прогресс, 1985. 336 с.
- Жукоцкий В. Д. Праздник как историческая память народа // Эстетико-культурологические смыслы праздника: сборник статей памяти А. И. Мазаева / отв. ред. И. В. Кондаков; Государственный институт искусствознания. Москва: ГИИ, 2009. С. 55-67.
- Карпова Г. Праздник в контексте социальных изменений: традиции и власть. Саратов: Научная книга, ЦСПГИ,2008. 150 с.