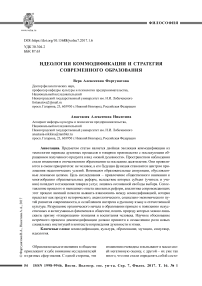Идеология коммодификации и стратегия современного образования
Автор: Фортунатова Вера Алексеевна, Никитина Анастасия Алексеевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Предметом статьи является двойная эволюция коммодификации из технологии перевода духовных процессов в товарное производство с последующим обращением полученного продукта в вид «новой духовности». Пространством наблюдения стали изменения в отечественном образовании за последние десятилетия. Они проявляются в смене приоритетов: не человек, а его будущая функция становится центром приложения педагогических усилий. Возникают образовательные симуляции, обусловленные ложными целями. Цель исследования - привлечение общественного внимания к многообразию образовательных реформ, вследствие которых субъект (учитель и ученик) попадает в отношения товара и услуг, лишаясь осознанной свободы выбора. Сопоставление прошлого и нынешнего опыта школьных реформ, аналитика сопровождающих этот процесс явлений помогли выявить взаимосвязь между коммодификацией, которая предстает как продукт исторического, аксиологического, социально-экономического путей развития современности, и ослаблением интереса к русскому языку и отечественной культуре. Разрушение органического начала в образовании привело к появлению искусственных и антигуманных феноменов в обществе, понять природу которых можно лишь сквозь призму «товаризации» познания и воспитания человека. Научное обоснование встречного процесса декоммодификации должно привести к осмыслению роли новых социальных институций в контексте возрождения духовности и этики.
Коммодификация, культура, образование, мутация, симулякр, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/14974843
IDR: 14974843 | УДК: 30.304.2 | DOI: 10.15688/jvolsu7.2017.1.6
Текст научной статьи Идеология коммодификации и стратегия современного образования
DOI:
Образовательные изменения в обществе привлекают к себе внимание исследователей из разных сфер знания. С одной стороны, эти
изменения очевидны и вызывают в массе своей негативную оценку, с другой – их уже так много, что они стали определять собой состо- яние культуры, развитие промышленности и экономики в целом, перспективы науки, то есть будущее страны и отдельного человека. Настал этап характеристики истоков, оценки итогов и выявления определенных закономерностей этого процесса, захватившего общественное сознание в многообразии его проявлений.
Главный исток изменений – рынок, категория товарного хозяйства, совокупность экономических отношений, ставший метафорой всех происходящих в нашей стране перемен. А предварительный итог этого состоит в изменении формулы товарного оборота К. Маркса «товар – деньги – товар» на новую, рожденную нашим временем: «товар – человек – товар». Товаризация практически всех отношений в обществе вызвала сущностные изменения культурно-антропологических процессов в обществе – социализации, идентификации, инкультурации и прочих гуманитарных технологий формирования личности. Чувствительнее всего к ним оказалось образование, которое имеет дело с мягким, гибким человеческим материалом, характеризующимся доверием, внушаемостью, подвижностью, реактивностью, отсутствием опыта и прочими характеристиками, определяющими психологический характер молодости. Коммодификация, обозначившая этот процесс, имеет выраженное сходство с феноменологией измененных состояний сознания. Рыночная реальность, на которую она ориентирована, уводит неподготовленных к ней людей в сторону фантазий, сновидений, иллюзий, вымышленных героев, игровой условности [2, с. 129]. Обучающий маркетинг представляет собой стратегию и тактику общественного мышления, а также сопровождающих его действий со стороны потребителей, производителей и посредников в коммерческой деятельности, какими предстанут выпускники школ и вузов в ближайшем будущем.
Первая стадия трансформации школы в маркетинг началась с изменения образовательного контента. Прежде всего воспитание исключили из общего массива образования. Затем потребовалось изменение гуманитарных представлений, релятивность устойчивых прежде понятий, рационализация минимума необходимого знания для актуального жизненного курса. Это сопровождалось появлением рынка образовательных услуг в виде написания курсовых, дипломных работ, создания банка рефератов, шпаргалок и тестовых заданий с готовыми ответами, возникновением аннотированных изложений классических текстов и прочими тектоническими сдвигами гуманитарной поверхности, на которой предстояло взрастить нового человека. Если в вузах объектом купли-продажи является научный продукт, то в школах его заменяют различные изделия, выполненные руками учащихся (реже всего), а также спорадические услуги «по требованию».
Вторая стадия характеризуется появлением комплекса новых представлений о человеке, который будет востребован зарубежными банками, крупными компаниями и т. д. Прежнее понимание творческого созидания как цели личностного развития сменилось креативным пересозиданием уже созданного, одновременно с этим возникла апология индивидуализма и ложно понятой свободы, рефлексия уступила место репрезентации, а в просторечии – «озвучке» скачанного содержания.
На третьей стадии «товара» появился новый общественно-культурный продукт, который можно назвать коммодифицированным образованием, состоящим в основном из набора функций – готовности к ответам на определенные действия («вызовы»). Редукция индивида к «эху текущей повестки дня» означала возвращение общества к той критической точке отсчета, с которой и начинались структурно-идеологические изменения. Отсюда современная ностальгия по завоеваниям советской школы и череда реформ в сфере современного образования. Образование как экономическое благо поставлено под сомнение широким обывательским сознанием. Так, например, А.О. Карпов, много уделяющий этой проблеме свое внимание, справедливо и вполне определенно пишет: «Коммодификация образования разрушает экономическую основу обучения» [4, с. 435].
С одной стороны, образование, кажется, способствует профессиональной карьере, с другой – затраченное на него время и труд чаще всего не получают эквивалента возврата. Тогда коммодификационные изменения идут друг другу навстречу – с обучающей и с обучаемой сторон. Появляются многочислен- ные тренинги вместо научного погружения в проблему, краткосрочное и формальное «повышение квалификации», понижается требовательность к профессиональному уровню педагога – ее заменяют имиджевые характеристики и отчетность. Низкая речевая культура, речевое поведение учителей стали характерным показателем снижения образовательного уровня. «Тыканье», раздражение в голосе, отсутствие жестикуляции, образной мысли, неправильные ударения, неначитан-ность и прочие сходные индикаторы свидетельствуют о распространенном неуважении педагогов к делу, которым они занимаются. Изменение духовного развития самого наставника означает начало разрушительной тенденции формировать в школе рыночные условия развития личности. Как отмечают колумнисты одной из авторитетных на сегодняшний день газет – «Культуры», современная школа, преодолев этап достижения «финансовой эффективности», попала «в тяжелейшую поколенческую войну, которая в полной мере проявила себя лишь сегодня, хотя велась уже давно» [1, с. 9]. Речь идет о воспитании представлений о правде и справедливости силами «старой гвардии», которая предпочитает вместо анализа молодежных порталов интернета «сидеть вечером перед телевизором».
Коммодификация, ставшая многоуровневой системой, содержащей в себе фундаментальные принципы бытия, общие категории и положения которого выступают в единстве с культурой и экономикой, сама подвергается ныне существенным метаморфозам и выдвигает вопросы, ответы на которые помогают разобраться в сложности многих новых явлений. Является ли, в частности, коммодификация (перевод различных видов деятельности в товар и денежную стоимость) источником и импульсом изменений в образовании и в развитии культуры? Этот вопрос актуально-дискуссионный. В рациональной по своей природе коммодификации есть нечто угрожающе иррациональное, порожденное товаризацией антропологических состояний [2, с. 129].
Само явление коммодификации возникло на стыке экономического, социального и духовного опыта, создавшего продукты «перевода» явлений культурно-образовательной среды в материальные реалии современной жизни. Определенная двусоставность коммодифицирующих процессов вызывает споры, сопряжения разных смыслов, столкновение различных ценностей. В таких условиях коммодификация предстает как идея социального поиска разрешения разных узловых проблем в обществе. Поэтому, с одной стороны, она уже стала соционормативным фактором современности, с другой – ее влияние на нравственные и эстетические традиции вызывает неприятие повседневной действительности, а сам процесс трансформации оценивается как разрушительный и кризисный. Человек в пространстве коммодификации становится носителем ложного/чужого сознания, ибо не он сам пробивается к истине, а заглатывает наспех изготовленный продукт с сильными мутагенными свойствами.
В контексте данной публикации встает вопрос о мутагенах образования, появление которых в той или иной мере спровоцировано образованием. Начнем с деидеологизации современного образовательного процесса. Выражение идей, вкусов, интересов ведущих социальных групп и партий перестало входить в задачу педагогической деятельности и позволило быстро отказаться от прежней коммунистической идеологии, открыв свободу для формирования личности. Образование без воспитания стало некоей ширмой-девизом, которым прикрывалось профессиональное сообщество, пока школа несла одна за другой потери нравственного, содержательного, общественного, мировоззренческого и просто общеантропологического характера.
Осмыслению новых феноменальных процессов в работе с молодежью, необъяснимых с точки зрения традиционной логики, способствует понимание роли и значения коммодификации, вторгшейся в эту внеэкономическую, на первый взгляд, сферу общественной жизни. Следует вспомнить, что образование, как и природа, «не терпит пустоты». Программная деидеологизация сопровождалась последовательным и активным внедрением либеральных идей, принципов «нового большинства», приведшего к «либеральному тоталитаризму». Усомниться в ценности его принципов – означает объявить себя «устаревшим» человеком, «совком», «отбросом истории» и пр. Либеральная идеология стала внедряться в сознание наибо- лее «продвинутых» учителей, получающих за свои «авторские» программы приличный гонорар, а также и прокламироваться в высказываниях учеников, как правило из среды обеспеченных родителей, приносящих в школу свои семейные «традиции».
Кроме того, коммодификация стала выступать как стимул симуляции. Дело в том, что в ней активно задействована технология предвосхищения. Это выражается в том, что выдвигается какая-то идея на потребу общего мнения, она «надувается» экспертными мнениями, заключениями, высказываниями, оценками (например, идея ускоренного образования, сориентированного на рынок), затем эта идея сдувается и лопается, оставляя за собой симулякр ложного образования. Спекуляция, симуляция и игра объединяются ритмом, темпом (такова идея мобильности в образовании), удобством. Культурные смыслы объявляются метаценностями (греч. meta – между, после ), в то время как экономические ценности предстают в виде сверхценностей, достижение которых становится жизненной целью, а воспитание осуществляется без воспитания как такового.
Еще в начале ХХ в. состоялся синтез понятий «ценность» и «установка» [6, с. 580], под которым сегодня понимается индивидуальное отношение к объекту, определяемому как ценность в данной социальной общности. Однако до сих пор роль социальных установок в поле деятельности педагога остается за границами его профессиональных интересов, поскольку не налажено сотрудничество социальных психологов и образовательных институтов в аспекте влияния коммодификации на личность. Между тем вопрос о будущем значении коммодификации для отечественной культуры необходимо связывать с идеей дисциплинарного синтеза, а также с теорией личностного развития в наши дни. Коммодификация образовательной системы неизбежна, поскольку рыночная экономика, основанная на частной собственности, и образование вне зоны рыночных отношений под государственным контролем неизбежно пойдут в разных направлениях, порождая новые противоречия [3].
Современная коммодификация предстает как пространство новых культурных сим- волов, созданных культурно-общественным регрессом. Основные формы самосознания, рефлексии, экзистирования в нем отбрасываются, предаются забвению, выглядят исчерпанными и ненужными. Вместо этого создается калейдоскоп образовательных стилей, познавательных векторов, обучающих программ, развивающих игр, поучающих развлечений и т. д. Образование под действием коммодификации дробится, получает фрагментарно-разрозненный характер, его «хватает» только на сиюминутные запросы общества, а точнее фирм, которые в очередной раз что-то «запускают», а под это требуются более или менее окультуренные сотрудники. Использовать пространство взрослеющего человека под будущую парковку, парк или музей пытаются нынешние «инженеры человеческих душ». Однако точечность подобных установок лишает индивида личностных перспектив, что в конечном счете негативно сказывается на общеобразовательном пространстве. Как мы уже отмечали [12], тривилизация – понятие постмодернистской культуры, пустившей в современном обществе глубокие корни. Оно соотносится с распространенной категорией современного сознания – цивилизацией, поэтому необходимо уяснить, какое значение образование имело в разных цивилизациях и как сформировался его статус в цивилизации новейшего времени. Необходимо отметить, что методология цивилизационного анализа в сфере образования достаточно размыта и не несет ощутимых смысловых результатов. Это во многом объясняется линейно-историческим подходом к оценке образовательных процессов во времени и пространстве.
Украинский профессор М.Ю. Савельева еще на Первом Российском культурологическом конгрессе указала на иной в содержательном и методологическом отношении подход к философии культуры. Она, в частности, обратила внимание на этический (антропологический) и культурологический повороты в истории мысли, вызванные тем, что «не имея реальной возможности для глобального культурного единства, человечество создает дискурсивную возможность такого единства, создает “пространство абсолютного дискурса”, где любой “зазор” межличностного или межкуль- турного понимания сразу же заполняется связью слов как “мостиком” от одного к другому» [10, с. 53]. Это точное наблюдение приобретает особую актуальность в ракурсе поставленной нами проблемы. Излишне напоминать, что образование – мощная и самостоятельная ветвь культуры и что в образовании действуют сходные с культурологическими закономерности. Они, в частности, проявляются в том, что образование, как и современная культура, начинает выполнять не свойственные ему функции. Превращение образовательных институтов в учреждения по предоставлению образовательных услуг создает ситуации, которые свидетельствуют о мутации педагогических и просветительских принципов в современной школе. «Заборы из слов» не скрывают того, что очевидно профессиональной среде: объект воспитания – личность оказалась сегодня на периферии образовательного процесса. А ведь школа еще должна создавать общность на новых основах, взамен тех, от которых мы отказались вместе с советским прошлым.
Казалось, что такая общность возникнет в безграничности интернет-пространства с помощью компьютерных технологий. Однако практика показала ложность такой идеи. Суть проблемы в том, что человеческая общность – это органическое образование. Подобная целостность не возникает за счет механической цивилизации. Идея объединения внутри образовательного пространства и за его пределами высказывалась неоднократно. Билл Ридингс в знаменитой книге «Университет в руинах» (1996) писал, что такую объединяющую функцию на себя брали старинные университеты Соединенного Королевства, но их вытеснили американские университетские кампусы, в которых знание становится профессией, автономным и эзотерическим продуктом [9, с. 131].
Сходные по смыслу явления мы наблюдали и в отечественном образовательном пространстве, где, например, под действием коммодификации английский язык стал технологическим овеществлением карьерного роста и материального успеха. При этом речь не идет о культуре, которую этот язык воплощает, он необходим лишь как орудие достижения поставленной цели. Вопрос о владении родным языком даже не возникает, хотя вся предшествующая духовная практика свидетельствует о том, что чужой язык улучшает понимание и владение своим собственным. Образовательная коммодификация активнее всего воздействует на гуманитарно-антропологическую сферу. Точные и естественные науки труднее поддаются сущностным изменениям, поскольку существуют по объективным законам. Коммодификация же изменяет субъективность, поскольку сама предстает как процесс натурализма и объективизма в понимании «базиса» человека, то есть его «материализма».
Одно из новообразований обучающей практики последних лет – «предоставление образовательных услуг». Это совершенно новая форма социокультурных отношений в цепочке «педагог – ученик/студент», активно воздействующая на образовательную реальность. «Заказчик» в лице родителя и ученика стал активно влиять на принятие стратегических решений в такой сугубо специальной сфере, как педагогическая наука. Параллельно этому появились учителя-менеджеры, «урокодатели», не включающие в свою деятельность аспекты воспитания и духовного развития личности. Менеджеризация деятельности вузов, означающая «применение идеологий, техник и практик, свойственных частному сектору экономики» [7, с. 115], создала странную ситуацию «условно-рейдерского» захвата обучающего пространства, которое находится под контролем государства. Появилось также еще одно, более образное определение этого процесса – «мак-дональдизация высшего образования», то есть использование в его структурах принципов ресторана быстрого обслуживания – эффективность, предсказуемость и контролируемость учебного процесса. Не случайно нынешний министр образования РФ О.Ю. Васильева практически сразу после назначения взяла курс на переориентацию такой тенденции, заявив, что «задача педагога отнюдь не в формировании квалифицированного потребителя, некоего «всечеловека» глобального мира, а в воспитании российского гражданина, патриота своей страны, помнящего и чувствующего духовно-нравственные начала, завещанные предками» [11, с. 3].
Коммодификация гуманитаристики как модель рыночного освоения образования требует создания целой системы согласованных культуртехнологий, не расходящихся с традиционными представлениями о человеке, обществе и культуре. В противном случае мы получим нерефлексивное, монотонное производное, которое растиражируется в разных формах индивидуального обогащения и дальнейшей трансляции накопленного в них опыта. Первыми шагами на пути изменения такой стратегии, на наш взгляд, должны стать: обсуждение пределов применимости коммодификации к образованию, очевидные следствия от внедрения ее общих положений при формировании личности, введение образовательных действий, направленных на устранение «неприродности» многих актуальных интенций со стороны той части общества, у которой смыслы и регулятивы жизнедеятельности расходятся с выработанными человечеством принципами духовности и этики.
Превращение прагматической надстройки над базисом классического образования в регулятор культурной обусловленности – задача сложная и комплексная. Коммодификация внедрилась одновременно по разным направлениям с привлечением всех общественных сил, в результате возник эффект панкоммодификации – перевода всех составляющих общественной и личной жизни в пространство товаризации и жесткой конкуренции как «борьбы без правил». Враждебность между образовательным и рыночным полюсами особенно очевидна в сфере гуманитаристики, которую самыми различными способами пытаются сокращать и устранять «за ненадобностью». И это отвечает сущности происходящих процессов, ибо «коммодификация образования исключает познавательную и духовную основы обучения» [4, с. 436]. Товаризация сетевого взаимодействия, которое, по замыслу одних современных теоретиков, должно взять на себя функции воспитания, стала, по утверждению ученых [8], также источником еще одной формы несвободы для учащихся.
Достаточно часто коммодификация подменяется коммерциализацией обучения, что порождает рецидивы в виде продажи-купли дипломов, «покупки» зачета или экзамена у недобросовестного педагога и прочие негативные явления современной общественной жизни. Плюрализм коммодификационных истин заключается в том, что они противоречиво объединяют в себе «базис и надстройку». На основе бескорыстия расцветает корысть, распространение знания сопровождается его сокрытием, повышение уровня интеллекта коррелируется погашением его тотального распространения человеческими реакциями и пр. Речь не идет о «коммодификационном кошмаре», как иногда определяют эту тенденцию некоторые исследователи [13], поскольку образование имеет свои рычаги управления этим процессом, начиная с воспитания, о котором уже упоминалось. Суть проблемы видится прежде всего в том, что идет обезличивание образовательного потока, в котором нет условий для развития таланта, обретения индивидуальности, заразительности примера другого. Вместо этого возникает синдром сел-фи-образовательного портрета выпускника со всеми сопутствующими этому современному жанру культурно-психологическими характеристиками [5].
Декоммодификация остается пока объектом беспокойного внимания лишь узкой части профессионального сообщества, не поддерживаемого «авангардом» населения, добившегося власти и наживы. Однако для восстановления свойственных образованию функций формирования личности мы должны сначала прийти к пониманию того, что образованием не является, а также к общенациональной идее человеческого капитала, альтернативного идеям товарного мира, создаваемого образованием и являющегося важнейшим видом национального богатства. Сближающими факторами являются категории «человеческий капитал» и «моральная экономика». Их соединительным звеном должен стать огромный потенциал человеческой личности, которая получает импульс своего развития в образовании, а живую форму воплощения – в морально-экономическом контексте общества. Базовые принципы в образовании не должны столь тесно, как сегодня, соприкасаться с коммодификацией: мораль, жизненные ценности, равноправное наряду с абстрактным развитием гуманитарной мысли – все это способно восстановить прежнюю славу отечественной школы.
Список литературы Идеология коммодификации и стратегия современного образования
- Бударагин, М. А. Школьное «пора»/М. А. Бударагин//Культура. -2017. -24-30 марта. -№ 10. -С. 9.
- Войскунский, А. Е. Система реальностей: психология и технология/А. Е. Войскунский, М. А. Селисская//Вопросы философии. -2005. -№ 11. -С. 119-130.
- Ильинский, И. М. Негосударственные вузы России: опыт самоидентификации/И. М. Ильинский. -М.: Изд-во МГУ, 2004. -352 с.
- Карпов, А. О. «Товаризация» образования против общества знаний/А. О. Карпов//Вестник Российской академии наук. -2014. -Т. 84, № 5. -С. 434-440.
- Мартынов, К. К. Селфи: между демократизацией медиа и self-коммодификацией/К. К. Мартынов//Логос. -2017. -№ 4 (100). -С. 73-87.
- Михалева, Е. А. Роль социума в процессе формирования ценностных установок личности/Е. А. Михалева//Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе «Российское общество и социология в ХХI веке: социальные вызовы и альтернативы»: в 3 т. -М.: Альфа-М, 2003. -Т. 1. -С. 580-581.
- Николаева, Е. М. Глобальное пространство высшего образования: основные тренды и черты/Е. М. Николаева, М. Д. Щелкунов//Ученые записки Казанского университета. -2015. -Т. 157, кн. 1. -С. 107-117.
- Никольский, В. С. Коммодификация знания и образования: эссе о ценностях и ценах/В. С. Никольский//Высшее образование в России. -2010. -№ 3. -С. 149-152.
- Ридингс, Б. Университет в руинах: пер. с англ./Б. Ридингс. -М.: Гос. ун-т -Высшая школа экономики, 2010. -304 с.
- Савельева, М. Ю. К вопросу о сущности так называемого «культурологического подхода» в философии/М. Ю. Савельева//Фундаментальные проблемы культурологии: сб. ст. по материалам конгресса. В 4 т. Т. 1: Теория культуры. -СПб.: Алетейя, 2008. -С. 47-54.
- Самохин, А. Е. Алексей Лубков: Учитель -не продавец услуг, а ученик -не потребитель/А. Е. Самохин//Культура. -2016. -2-8 дек. -№ 43. -С. 3.
- Фортунатова, В. А. Тривилизация образования как модель социальной динамики в современных информационных условиях/В. А. Фортунатова, Ю. А. Платонова//Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. -2015. -№ 1 (9). -С. 23-40. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://cyberspace.pglu.ru/upload/uf/02e/new_sbornik-1_2015-_9_.pdf (дата обращения: 24.11.2016). -Загл. с экрана.
- Fourcade, M. Moral Views of Market Society/M. Fourcade, R. Healy//Annual Review of Sociology. -2007. -Vol. 33. -P. 285-311.