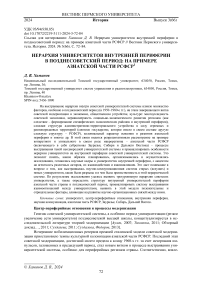Иерархия университетов внутренней периферии в позднесоветский период: на примере азиатской части РСФСР
Автор: Хаминов Д.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Позднесоветские университеты как исследовательские институции
Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
На выстраивание иерархии внутри советской университетской системы влияло множество факторов, особенно в позднесоветский период (в 1950-1980-е гг.), на этапе завершающего витка советской модернизации в экономике, общественном устройстве, культуре: многоукладность советской экономики, неравномерность социально-экономического развития регионов (как следствие - формирование специфических экономических районов и внутренней периферии), сложная структура административно-территориального устройства в силу огромных и разнопорядковых территорий (союзное государство, которое имело в своем составе другую сложную структуру - РСФСР), колониальный характер освоения и развития азиатской периферии и многое др. В этой связи видится репрезентативным рассмотрение на примере конкретного и уникального в своем роде макрорегиона - азиатской части РСФСР (включающего в себя субрегионы Зауралья, Сибири и Дальнего Востока) - процессы выстраивания такой неоднородной университетской системы и проанализировать особенности иерархии университетов на внутренней периферии советской университетской системы. Это позволит понять, каким образом планировались, организовывались и осуществлялись исследования, готовились научные кадры в университетах внутренней периферии, с акцентом на агентность различных акторов, их взаимодействия и взаимовлияния. Это даст понимание в вопросе о том, как выстраивалась научно-коммуникационная система старых (ведущих) и новых университетов, какие были разрывы и в чем была преемственность в этой иерархической системе. По результатам исследования удалось выявить трехуровневую иерархию советских университетов, а также определить структуру внутренней университетской периферии азиатской части страны в позднесоветский период, проанализировать систему выстраивания взаимоотношений между университетами, выявить в этой модели положительные и отрицательные факторы, влияющие на развитие научно-организационных связей между ними.
Университет, центр-периферийные отношения, внутренняя периферия, научная коммуникация, азиатская часть рсфср, зауралье, сибирь, дальний восток
Короткий адрес: https://sciup.org/147246554
IDR: 147246554 | УДК: 93/94(930.85) | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-72-84
Текст научной статьи Иерархия университетов внутренней периферии в позднесоветский период: на примере азиатской части РСФСР
Центр-периферийные отношения и процессы модернизации
Генезис советской университетской системы, а особенно период университезации (резкое увеличение сети университетов) позднесоветской высшей школы, концептуализируется в исследовательской литературе теорией модернизации [ Аузан , 2007; Тихонова , 2011; Обзорный доклад…, 2011; Суздалева , 2011; Суздалева , Федоров , 2013].
Исчерпание мобилизационных резервов прежней сталинской модели советской модернизации приостановило темпы культурной колонизации азиатской части РСФСР. Последний этап советской модернизации, достигший своего предела к концу 1960-х гг. за счет исчерпания импульсов, заложенных в предыдущий период, стал новым витком в процессе выстраивания университетской системы, особенно для периферийных регионов страны. Соответственно, вовле-
ченность пространств и ресурсов Зауралья, Сибири и Дальнего Востока в модернизационные процессы обрела свои предельные контуры примерно в это же время.
Усилить эвристический потенциал теории модернизации, сгладить прямые углы ее евро-поцентричных положений способна концепция центр-периферийных отношений, которая позволяет, с одной стороны, более наглядно показать логику и механизмы трансплантации различного рода модерновых институций в странах, не относящихся к ядру европейской цивилизационной ойкумены (к которым, безусловно, относился СССР), с другой же - детально продемонстрировать структурную и смысловую трансформацию их внутреннего периферийного пространства на региональном уровне.
Теория модернизации уже успела стать общим местом в секуляризованном постсоветском историографическом дискурсе, но, к сожалению, пока что зачастую по-прежнему привлекается все в том же монистически безальтернативном ключе. Рациональное зерно этой позитивистской теории способно прорасти лишь в условиях принятия возможности многовариантной реализации модерности, способствовать созданию которых будет общий контекст смежных исследовательских оптик. Расширить сферу применения и углубить уровень социальноисторического проникновения категории «модернити» вполне способна концепция центр-периферийных отношений, помогающая обозначить внешние контуры и особенности того или иного варианта преодоления традиции и параметры орбиты социальной динамики относительно первоначального культурного ядра. Внутреннее же содержание модерновых практик, зачастую остающееся без должного внимания в силу вульгарного понимания процессов модернизации, позволит рассмотреть их в макро- и региональном масштабе, что, во-первых, обеспечит необходимую согласованность с рамками центр-периферийных отношений, во-вторых, наглядно продемонстрирует общее и особенное конкретного варианта модерности во всем его внутреннем многообразии.
Центр-периферийные отношения с точки зрения теоретического обоснования уже подробно рассматривались в современной историографии, прежде всего в аспекте организации науки и взаимоотношений научных учреждений в советский период в системе Академии наук СССР [ Водичев, Узбекова, 2008; Узбекова , 2009; Узбекова , 2017].
Концепция центр-периферийных отношений существенно дополняет и расширяет положения теории модернизации и в плане анализа советской государственной политики в сфере науки, в частности для освещения проблем регионализации университетской науки.
В этом отношении можно обозначить следующие структурные уровни системы центр-периферийных отношений внутри самого азиатского научного пространства:
-
1. Центры азиатской периферии: безусловный лидер - Новосибирск, а далее более-менее равнозначные центры (по хронологии формирования) - Томск, Иркутск, Свердловск и Владивосток. В них была выстроена собственная тесная научно-организационная коммуникация с отраслевыми вузами и институтами системы АН СССР. Определим эти центры как периферию первого порядка.
-
2. Города с молодыми университетами. Это были относительно недавно (на протяжении 1950-1970-х гг.) открытые в крупных административных центрах университеты (по хронологии открытия) - в Якутске, Красноярске, Тюмени, Барнауле, Кемерове и Омске. Назовем их периферией второго порядка.
-
3. Города (административные центры субъектов РСФСР и иные значимые в экономическом отношении города этих регионов), не подвергшиеся процессу университезации, - периферия третьего порядка (не входят в предмет данного исследования).
Центр понимается как средоточие национальной науки и образовательного потенциала в данный исторический период, или в данной научной дисциплине, или в сети научноисследовательских или образовательных учреждений, ориентированное на создание высококачественного научно-образовательного продукта по наиболее актуальным направлениям и обладающее способностью к распространению вовне своих моделей организации. Периферия же, в свою очередь, представлена региональными комплексами научных и образовательных учреждений, которые в результате недостаточного уровня своего развития настроены на восприятие новшеств, но не способны формировать и транслировать их самостоятельно. При этом периферия вовсе не обязательно является худшим, менее интересным или вторичным по отношению к центру местом научной или образовательной деятельности. Ярким примером тому могут являться научно-исследовательские институты системы Сибирского отделения АН СССР или же всесоюзно известный Сибирский физико-технический институт при Томском университете (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 37. Д. 32. Л. 30–32) – первенец академической науки азиатского региона, берущий свое начало с 1920-х гг. Знание, полученное на периферии, может быть вторичным по отношению к «центральной» науке, но это не мешает ему стать первичным фактором при удовлетворении местных социально-экономических потребностей (в рамках чего складывается т.н. внутренняя периферия, т.е. периферийное знание в отношении центра самой периферии).
Основанием центр-периферийных отношений в масштабах национальной науки служит сеть взаимовлияний между региональными научно-педагогическими сообществами (вузовскими и академическими). Анализ этих сетей проводится с использованием критерия центральности сообщества, который определяется степенью его влияния на все остальные сообщества в целом и приводит к их вертикальной стратификации по этому критерию.
Исключительность географической специфики азиатской части РСФСР, его трансграничный и кросскультурный характер обусловливают целесообразность вспомогательного привлечения к теории модернизации не только концепции центр-периферийных отношений, но также и концепта т.н. внутренней колонизации, дающего широкую ретроспективную панораму выстраивания центром структурных уровней внутренней периферии, раскрывая тем самым социокультурное содержание политико-административных практик по освоению периферии собственной страны.
Университезация и оформление внутренней периферии
Система советской внутренней университетской периферии получила свое развитие уже в послевоенные десятилетия – на протяжении 1950–1980-х гг.
Решениями XX съезда КПСС особая роль в социально-экономическом развитии СССР отводилась восточным районам страны. Одним из приоритетных направлений в этой связи было развитие их научно-образовательного потенциала. Поэтому стало возможным создание в 1956 г. академического научного центра на Востоке СССР – Сибирского отделения (СО) АН СССР в Новосибирске, а также открытие в 1958 г. Новосибирского государственного университета (НГУ), имевшего самую тесную аффилиацию с академическими институтами и призванного работать в тесном сотрудничестве с учеными СО АН СССР: совместная подготовка высококвалифицированных ученых, интеграция научно-образовательных процессов при подготовке специалистов, совместные направления научных исследований и т.п. (Об организации Новосибирского государственного университета, 1958).
Следующий этап на пути модернизационных процессов в научно-образовательной сфере в послевоенный период был обусловлен расширением сети университетов. Открытию новых университетов на территории периферийных регионов РСФСР и других союзных республик в 1950–1960-е гг. способствовал ряд факторов ‒ как общегосударственных, так и региональных. Например, национальная политика советского государства – через интеграцию национальной интеллигенции в общую советскую элиту (в единое пространство советской научнопедагогической интеллигенции) внедрялись идеологические установки для общественнополитического развития этих регионов и самих наций. Благодаря этому, например, стало возможным создать в 1956 г. в Якутской АССР, одном из крупнейших национальных субъектов азиатской части РСФСР, собственный университет (единственный университет национального субъекта в азиатской части РСФСР) на базе Якутского пединститута. Открытие его было тесно связано с промышленным освоением Якутии и открытием алмазоносных месторождений.
С появлением на Востоке страны НГУ – университета нового типа, по мере расширения научно-образовательных и организационных позиций Томского, Иркутского, а со временем и вновь открытого Дальневосточного университетов, а также укрепления позиций большинства региональных институтов начала формироваться новая модель взаимоотношений между регио- нальными вузами и выстраиваться внутренняя иерархия научно-организационной коммуникации. До этого устойчивой коммуникации между университетами и систематических связей, а уж тем более выстроенной иерархии отношений не было. Вся организационно-коммуникационная составляющая научной деятельности носила если не случайный, то инициативный и фрагментарный характер и строилась на личных связях ученых и руководства университетами.
Конкуренция и поиск своего места
Прежде всего существенно меняются роль и место университетов в системе научнообразовательного комплекса азиатской части РСФСР. Теперь они начинают приобретать все больше координирующую функцию в образовательном, научном, методическом, организационном и иных процессах. Вместе с тем старые университеты азиатской периферии (прежде всего Томский и Иркутский) утрачивают свою монополию на подготовку высококвалифицированных научных кадров и научные исследования. Они разделяют ее с Новосибирским университетом, академическими институтами СО АН СССР и набиравшим научный потенциал Дальневосточным университетом. Якутский университет в силу своей географической и транспортной отдаленности, а также его «национальной» функции оставался последующие десятилетия как бы в обособленном положении с точки зрения коммуникации с другими университетами азиатской части РСФСР.
В новых реалиях старые университеты вынуждены были искать свое место в этой системе. Особенно это касалось ТГУ, занимавшего до появления НГУ исключительное положение не только в Западной Сибири, но и фактически во всем азиатском макрорегионе. С открытием НГУ оно стало изменяться. Так, профессор Томского университета И. М. Разгон на отчетновыборном партийном собрании ТГУ уже в октябре 1958 г. отмечал: «Вблизи от нас в Новосибирске происходят сессии Академии наук, строятся новые научные городки. <…> Положение наше тяжелое, полная неизвестность. Кроме того, что мы должны нести моральную ответственность за работу сибирских вузов, - мы ничего не имеем. В Красноярске, Владивостоке, Иркутске строятся филиалы СО АН СССР [региональные научные центры СО АН СССР. - Д. Х .]. А в Томске, будет ли? Мы должны знать - какое место в науке должен занимать наш университет» (ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 24. Л. 19-20).
Одной из важнейших форм координации научной работы являлись научные конференции, совещания, создание тематических межвузовских советов, выпуск тематических научных сборников и т.п. Начиная с 1956 г., согласно Постановлению Совета Министров СССР «О мерах улучшения научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях» (О мерах улучшения..., 1957), распространение получили межвузовские конференции и совещания работников высших учебных заведений. Дальше - больше. В соответствии с приказом МВ и ССО РСФСР от 22 ноября 1961 г. были образованы Западно-Сибирский в Томске (при ТГУ) и Восточно-Сибирский в Иркутске (при ИГУ) советы по координации и планированию НИР по техническим и гуманитарным наукам. В конце 1960-х гг. оба совета были преобразованы в региональные научно-методические советы. Они занимались координацией научноисследовательской деятельности высших учебных заведений регионов, стремились направить усилия ученых на решение кардинальных проблем научно-технического прогресса. В состав советов входили экспертные комиссии, которые курировали работу вузов в различных областях естественных, технических и гуманитарных наук.
По замыслу центрального руководства, советы должны были объединить все высшие учебные заведения Сибири. Однако этого не случилось, так как ректоры вузов других министерств и ведомств (Минздрава, Минпроса, МПС, Минсельхоза, Центросоюза) работать во вновь образованных структурах просто не стали. С середины 1960-х гг. в них входили только институты и университеты, подчинявшиеся Минвузу РСФСР [ Петрик , 2006 a ].
Важнейшим источником подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров как для системы высшего образования, так и отчасти для научных учреждений были аспирантура и диссертационные советы в азиатских университетах РСФСР. Наряду с эффективно работавшими аспирантурами и диссертационными советами ТГУ и ИГУ, с 1960-х гг. к ним добавился еще и НГУ в купе с академическими институтами системы СО АН СССР (благодаря этому НГУ имел доступ к научным руководителям, материально-технической базе институтов и иным ресурсам). В 1960-е гг. при НГУ был организован объединенный ученый совет по защите диссертаций по историческому, филологическому и экономическому направлениям. Это был первый совет по защитам при НГУ. Совет состоял из обществоведов Новосибирска и Томска. До этого такие советы по другим наукам были основаны при Президиуме СО АН СССР. Правда, по свидетельству стоявшего у истоков НГУ Л. Ф. Лисса и непосредственного участника тех событий, «…томичи очень ревниво отнеслись к возникновению НГУ» [Лисс, 2013, с. 303-304], в частности представители социо-гуманитарного направления ТГУ, которые почувствовали конкуренцию своему до этого практически монопольному положению.
В ответ на открытие и расширение сети научно-исследовательских институтов системы СО АН СССР (как в самом Новосибирске, так и в других городах при создании региональных научных центров) университеты периферии начинают создавать собственные научноисследовательские подразделения. Причем не только в форме проблемных лабораторий, но и целых научно-исследовательских институтов. Эта тенденция была связана в определенной степени с тем, что шла острая конкуренция между академической и вузовской наукой (причем эта тенденция была характерна для университетов в масштабах всей страны), а шире - между Академией наук СССР с одной стороны и МВ и ССО СССР и МВ и ССО РСФСР с другой.
В 1960-е гг. в СССР остро стоял вопрос: что развивать - академическую или вузовскую науку? Правительством был взят курс на развитие и поддержку именно академической науки, в то время как вузам оставили только образовательную функцию и подготовку специалистов. А наука в них сохранялась по остаточному принципу и за счет возможностей, которые предоставляли хоздоговорные работы. Силами регионов периферии, в свою очередь, шла борьба за выживание и развитие именно вузовской науки, не имевшей финансовой поддержки из центра. Новосибирский университет не участвовал в этих процессах в силу теснейшей коллаборации с СО АН СССР. Но Томск и Иркутск оказались центрами такой борьбы, и во многом ТГУ и ИГУ это удалось: наука здесь была не только сохранена, но и усилена, благодаря созданию крупных научно-исследовательских структур. В 1968 г. по постановлению Совета Министров РСФСР и приказу МВ и ССО РСФСР на базе ТГУ были созданы два крупных научно-исследовательских института: НИИ прикладной математики и механики (НИИ ПММ) и НИИ биологии и биофизики (НИИ ББ), продолжал действовать созданный еще с 1920-х гг. Сибирский физикотехнической институт.
В 1960-1980-е гг. при ИГУ действовали три научно-исследовательских института, специализировавшихся на биолого-географических и физико-химических исследованиях. Среди них НИИ биологии - один из старейших вузовский НИИ Сибири, созданный по постановлению Наркомпроса РСФСР еще в 1923 г.; НИИ нефти и углехимического синтеза, переданный в университет из системы АН СССР постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР в 1963 г.; НИИ прикладной физики, организованный на основе постановления Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ) 1969 г.
В 1960-1970-е гг. в университетах азиатской периферии продолжается формирование собственных, уникальных и, главное, относительно самостоятельных научных школ, что также впоследствии скажется на формировании внутренней научно-организационной периферии. Это позволяло в полной мере освободиться в содержательном отношении от науки «большого центра», не зависеть от нее и переключиться/включиться на внутренний научно-образовательный комплекс.
Одной из форм сотрудничества АН СССР и ее отделов и высших учебных заведений азиатской части РСФСР являлись совместные исследования. Ученые высшей школы привлекались к подготовке коллективных обобщающих монографий, которые создавались в академических учреждениях как естественно-научного, так и гуманитарного профиля [История Урала, 1963-1965; История Сибири..., 1968-1969; История рабочего класса Сибири, 1982-1986; История крестьянства Сибири, 1982-1991].
Масштабная университезация высшей школы сыграла важную роль в выстраивании внутренней университетской периферии. Скачок в этом процессе произошел в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. и занял на территории азиатской части РСФСР намного меньший период, чем этот процесс протекал в целом по стране в других макрорегионах. Благодаря уни-верситезации, завершился процесс окончательного выстраивания внутренней университетской периферии и складывания отношений между университетами центра (условно старых университетов) и периферии (условно новых университетов) уже в самом азиатском макрорегионе. Связано это было с крупнейшей (а по факту единственной за всю историю высшей школы СССР) университезацией высшей школы, т.е. с созданием за короткий отрезок времени разветвленной сети новых университетов.
За этот период в крупнейших и наиболее значимых центрах РСФСР и других союзных республик были открыты новые университеты. В это десятилетие было открыто более трети всех университетов, существовавших в СССР к середине 1970-х гг. Именно поэтому данный процесс и определяется термином «университезация» высшей школы СССР.
В азиатском регионе было открыто пять новых университетов (либо заново учрежденных, либо, как это имело место в большинстве случаев, реорганизованных из имевшихся в регионе пединститутов и иных вузов и филиалов).
Этот процесс в азиатском макрорегионе (как и все остальные процессы) имел свои специфические черты, которые выразились в территориальной диспропорции университезации. Дальний Восток (Дальневосточный экономический район) вообще не был затронут этим процессом, имея, по-прежнему, лишь Дальневосточный и Якутский университеты, открытые еще в середине 1950-х гг. В Восточной Сибири (Восточносибирский экономический район) при наличии старого Иркутского университета появился только один новый Красноярский университет. А вот в Западной Сибири (Западносибирский экономический район), к имевшимся уже сильнейшим Томскому и Новосибирскому университетам, за двухлетний период (с 1973 по 1974 г.) были открыты еще четыре новых университета. Надо отметить, что такая диспропорция по экономическим районам была характерна не только в отношении университетов, но и в отношении вузов регионов вообще. Например, на рубеже 1950–1960-х гг. из почти 60 вузов, работавших на территории Сибири, 2/3 работало на территории западносибирского региона, и только 1/3 – на территории Восточной Сибири [ Петрик , 2006 b, с. 80‒81]. В дальнейшие годы сохранялась примерно такая же диспропорция.
Широкомасштабное открытие университетов именно в Западной Сибири связано с тем, что в Западносибирском экономическом районе в 1960-е гг., а особенно в 1970-е гг., регионы получили мощный импульс к развитию, благодаря усилению роли и значения добывающей и перерабатывающей промышленности, развитию новых производств. Это требовало подготовки квалифицированных кадров в системе высшего образования. Экономические процессы стимулировали и социальное развитие сибирских регионов, шел постоянный рост численности населения. Дальний Восток развивался намного медленнее, чем регионы Сибири, и поэтому уни-верситезация здесь проходила медленно и трудно. Далеко не каждый дальневосточный административно-территориальный субъект имел собственный пединститут, не говоря уже об академических научных учреждениях.
Шефская помощь новым университетам
В связи с этим еще более усилился процесс выстраивания внутренних центр-периферийных отношений. Даже можно наблюдать проявление некоторой борьбы за сферы влияния над новыми университетами. Наиболее характерно это отразилось на новом Тюменском университете в силу специфического трансграничного положения самого региона между Уральским и Западно-Сибирским экономическими районами и определения его институциональной и организационной принадлежности.
Согласно плану мероприятий по организации ТюмГУ, утвержденному ранее МВ и ССО РСФСР 7 сентября 1972 г., в качестве учреждений и подразделений, которым было поручено осуществлять шефскую помощь новому вузу, был определен Уральский университет (ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 879. Л. 1–3), а позже было одобрено предложение Главным управлением университетов, экономических и юридических вузов МВ и ССО РСФСР о шеф- стве над ТюмГУ, кроме Уральского, еще и Пермского университета, а ректорам было рекомендовано заключать договоры о помощи и сотрудничестве (Там же. Л. 9‒10). Такая шефская ориентация объясняется тем, что сама Тюменская область и ее автономные округа вошли в свое время в Уральский экономический район (к которому относились Свердловская и Пермская области). При этом по многим позициям и давно устоявшимся научным связям еще со времен существования Тюменского пединститута и иных вузов региона сам университет тяготел в научном и кадровом отношении к старым университетам Сибири. Формально относящиеся к Уралу (к Уральскому экономическому району) и в организационном плане привязанные к нему (координационные советы, группы, зональные тематические и отраслевые совещания и т.п.), они не прекращали связи с Западной Сибирью. Это выражалось в сотрудничестве с учеными сибирских городов в научных мероприятиях и проектах (ГАТюмО. Ф. Р-2124. Оп. 1. Д. 389. Л. 22–23).
В новых университетах Сибири начинают работать выпускники и сотрудники старых сибирских университетов, формируя научно-педагогический состав. ТГУ и НГУ в рамках шефской помощи молодым университетам Западной Сибири помогали им усиливать их кадровый состав, причем не только молодыми специалистами, но и уже состоявшимися учеными. Так, только из ТГУ для работы в новых университетах уехало более десяти докторов наук, среди которых оказался и профессор А. П. Бородавкин. В 1973 г. он уехал в Алтайский государственный университет (АлтГУ), где был назначен проректором по учебной и научной работе. Будучи ключевым (а по факту долгое время и единственным) проректором АлтГУ, А. П. Бородавкин активно занялся решением кадровых проблем молодого университета. По его инициативе для работы на различных факультетах АлтГУ пригласили ряд ученых, выпускников ТГУ и других вузов Томска. При его активном содействии в АлтГУ была организована собственная аспирантура по нескольким научным специальностям.
Для пополнения преподавательского и научного состава специалистами высшей квалификации и для заполнения вакансий на вновь открываемых кафедрах во второй половине 1970-х гг. молодыми университетами использовалась целевая аспирантура ТГУ, НГУ, ИГУ, Свердловского и других близлежащих и центральных (Москва и Ленинград) университетов РСФСР (ИАОО. Ф. П-9277. Оп. 1. Д. 1. Л. 33).
Одним из мотивов (если не ведущим) для сотрудников старых университетов переезжать на работу в новые вузы были карьерные устремления и профессиональные амбиции. В новых университетах было больше возможностей устроить свою научно-преподавательскую или административную карьерную траекторию, добиться бόльших результатов в научной деятельности, избавиться, наконец, от давления научных авторитетов своей старой школы, создать свое собственное научное направление. Конкурируют с этим мотивом и чисто бытовые и насущные проблемы – улучшение жилищных условий. В данной связи уместен мемуар непосредственного участника тех событий А. В. Минжуренко – выпускника исторического факультета и аспирантуры ТГУ, приехавшего в качестве молодого специалиста в Омский университет и в скором времени занявшего должность заведующего кафедрой. В этом же мемуаре прослеживается особая и решающая роль региональных властных элит в деле открытия университетов: «…в Москве не планировали открывать его здесь [университет в Омске. – Д. Х. ] в годы девятой пятилетки (1971–1975 гг.). Но в то время область возглавлял знаменитый первый секретарь обкома Сергей Иосифович Манякин, амбициозный и волевой руководитель, который в связи с приближением населения города к миллиону вознамерился сделать его университетским во что бы то ни стало. В Москве, уступая его настояниям, сказали: найдете помещение для университета, дадите жилье всем преподавателям – пожалуйста, открывайте <…>. Упрямый и энергичный глава области ответил утвердительно. Так и порешили. Зато мы, все приглашенные сюда преподаватели, действительно, сразу получили нормальные квартиры <…>. У нас в Томске маститые доценты мыкались без жилья много лет» ( Минжуренко , 2020, с. 127).
Эти обстоятельства в достаточной степени подтверждаются и материалами протоколов заседаний ученых советов и партийных собраний молодых и старых университетов (ИАОО. Ф. П-9277. Оп. 1. Д. 5. Л. 79; ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 518. Л. 27; Ф. 607. Оп. 1. Д. 4709. Л. 28–31; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4570. Л. 4).
Кадровая политика новых университетов
В новых университетах были различные подходы к кадровой политике в принципах формирования научно-педагогических коллективов. В университеты, которые выстраивались с чистого листа (АлтГУ и ОмГУ), кадры приглашались сразу крупными коллективами и из одной научной отрасли. Университеты, которые переформатировались из пединститутов, вынуждены были работать с прежним кадровым составом. Иллюстрацией этой кадровой стратегии может стать мемуар, связанный с Омским университетом: «Первый ректор ОмГУ Василий Васильевич Пластинин применил при формировании кадрового состава преподавателей нового вуза оригинальный принцип. Во-первых, он отказался приглашать столичных ученых: получат квартиры, обменяют их и уедут обратно. Решили звать в Омск только сибиряков. Во-вторых, постановили брать их целыми выводками, а не поодиночке. Скажем, надо укомплектовать матфак: а где у нас самые сильные в Сибири математики – ясно, в Новосибирске, вот целую партию молодых ученых-математиков и пригласили в Омск. <…> Сильные химики оказались в Иркутске, их тоже сюда заманили квартирами вместе с их маститым профессором – “отцом советского напалма”. И так далее» ( Минжуренко , 2020, с. 127‒128).
Подобная кадровая стратегия становилась удачной, хотя бы в том, что в новых университетах не оказывалось представителей разных, и тем более соперничающих, научных школ и направлений в каждой науке. Это позволяло избежать склок, внутрифакультетской и внутрика-федральной борьбы, характерных для других новых университетов, когда там собирались представители разных направлений (прежние и новые сотрудники – хоть и талантливые молодые ученые, но приверженцы и последователи разных и даже враждебных друг другу научных школ и направлений). Такие университеты очень долго сотрясала борьба, на которую уходило много сил и времени, в результате чего сильно затягивалось научное становление нового вуза.
МВ и ССО РСФСР в своем программном письме 1972 г. «О повышении роли университетов в системе высшей школы» возлагало на ряд ведущих университетов восточной периферии РСФСР (в том числе на Пермский, Уральский, Томский, Иркутский и Новосибирский) функции базовых, ответственных за координацию научно-методической и исследовательской работы в области актуальных проблем высшей школы конкретного региона. Поэтому, помимо сибирских университетов, шефская помощь оказывалась и университетами соседних макрорегионов. Показателен здесь уже приводившийся выше пример с ТюмГУ (ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 879. Л. 1–5, 9–10).
Одной из важнейших составляющих во взаимодействии старых и новых университетов, реализовывавшаяся на систематическом уровне, стала шефская помощь ведущих университетов (ТГУ, ИГУ, НГУ УрГУ и др.) молодым вузам. Эта форма взаимодействия носила уже не ситуативный и субъективный характер (каковыми были все предыдущие формы), а являлась институциональным фактором. Во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х гг. НГУ как ведущий вуз Сибири заключил серию договоров об оказании шефской помощи и сотрудничестве между НГУ и новыми университетами. Причем эти договоры заключались не только с новыми университетами, но и с уже существовавшими. Среди плановых показателей для университетов, с которыми НГУ заключил договоры, значились такие пункты, как: обеспечение повышения научной и профессиональной квалификации преподавателей, направление на работу выпускников аспирантуры, обучение в целевой аспирантуре специалистов для подшефного вуза, направление на постоянную работу в подшефный вуз своих преподавателей, осуществление руководства подготовкой диссертаций преподавателями подшефного вуза, командирование ученых для чтения лекций, командирование ученых для консультирования и оказания практической помощи, принятие на кратковременную стажировку руководителей подшефного вуза и т.п. Один из первых договоров о шефской помощи и сотрудничестве в августе 1977 г. НГУ заключил с ОмГУ. Позднее, в 1980 г., такие договоры НГУ были заключены с АлтГУ, КемГУ, ТюмГУ и некоторыми отраслевыми институтами Сибири (ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 2239. Л. 2–4, 6–6 об.; 9–9 об., 12–12 об., 16–16 об.). В 1981 г. такой же договор о шефской помощи и сотрудничестве был заключен ТГУ с АлтГУ (ГААК. Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 1033. Л. 1–3).
Новосибирский государственный университет в 1970–1980-е гг. становится ведущим центром и базой подготовки кадров высшей квалификации для университетов Сибири и Дальнего Востока. В аспирантуре НГУ на 1 января 1974 г. обучалось 206 человек, из них 169 очно и 37 заочно (ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 1554. Л. 65). Из 73 человек 50 были зачислены в НГУ целевым назначением для таких вузов, как КемГУ, АлтГУ, ТюмГУ, Хабаровский, Дальневосточный и Алтайский политехнические институты и т.д. На стажировку было принято 19 человек; все они направлялись целевым назначением из вузов Сибири (Там же. Л. 66‒67).
В молодых университетах остро стояла проблема с открытием советов по кандидатским и докторским диссертациям. Так, ОмГУ в 1976 г. безуспешно ходатайствовал перед ВАК об открытии советов по четырем специальностям (ИАОО. Ф. П-9277. Оп. 1. Д. 3. Л. 40). В конце 1970-х гг., по соглашению между ОмГУ и НГУ, за счет мест НГУ ОмГУ получил право принимать аспирантов для нескольких докторов наук по разным научным специальностям. Эту форму затем расширили в ОмГУ, чтобы в дальнейшем, накопив опыт, открыть собственную аспирантуру (ИАОО. Ф. П-9277. Оп. 1. Д. 9. Л. 103).
Специфика самой университетской научно-исследовательской работы в 1970–1980-е гг., которая тесным образом связывалась с учебным процессом, была призвана обеспечивать научные разработки по дисциплинам учебного плана подготовки специалистов. Четко стали артикулироваться кооперация и разделение труда (по тематикам) с другими сибирскими вузами и академическими учреждениями региона и центра. Распространенным становится участие университетов в работе по координационным программам МВ и ССО РСФСР, институтов системы АН СССР и СО АН СССР, в международных программах и проектах. Изменяется статус Томского, Новосибирского, Иркутского и Дальневосточного университетов, которые становятся опорными вузами в регионах, координирующими учреждениями научной работы вузов Сибири и Дальнего Востока по конкретным отраслям знания.
Важным исследовательским аспектом в вопросе выстраивания университетской внутренней периферии, становится вопрос о том, какие факторы на нее воздействовали, в том числе и географические, близость или отдаленность от научных центров уже самой внутренней периферии и т.п.
Высшее региональное партийное руководство поддерживало университеты не только на первоначальной стадии их открытия, но и на протяжении их дальнейшей работы. Первые лица региона подключались к решению принципиальных вопросов работы молодых университетов. Например, в 1981 г. первый секретарь Алтайского крайкома КПСС Н. Ф. Аксенов в своем обращении к министру МВ и ССО СССР В. П. Елютину просил его рассмотреть вопрос об открытии аспирантуры в АлтГУ. В письме краевой руководитель обращал внимание министра на то, что «положительное решение вопроса об открытии приема в аспирантуру АлтГУ имеет первостепенное значение для развития перспективных научных направлений в университете <…> и успешного решения проблемы закрепления научно-педагогических кадров, и, в первую очередь, кандидатов и докторов наук» (ГААК. Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 1152. Л. 1). В том же 1981 г. к В. П. Елютину обратился министр МВ и ССО РСФСР И. Ф. Образцов с письмом в поддержку открытия аспирантуры в Алтайском университете после очередного ходатайства к нему от руководства края и университета о ее открытии по девяти специальностям (Там же. Л. 2–3). После череды бюрократических проволочек аспирантура в АлтГУ начала свою работу с 1982 г. Это произошло спустя почти десятилетие после учреждения самого университета. Для сравнения: в ТюмГУ уже в первый год его работы была открыта аспирантура по ряду научных специальностей (ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 879. Л. 35). Это было связано с тем, что АлтГУ находился ближе к университетам и научным институтам западносибирского научно-образовательного комплекса, и, по мнению центрального руководства, у него не было такой острой нужды в собственной аспирантуре, чем у ТюмГУ, находившегося в отдалении как от Урала, так и от западносибирских научно-образовательных институций.
Заключение
Рассматриваемый позднесоветский период – это годы исчерпания инерции советской модернизации. В научно-организационном плане это выражалось в достижении пределов экстенсивного расширения академических и вузовских структур, что означало окончательное складывание системы центр-периферийных отношений внутри советской науки (как в сугубо территориальном, так и в содержательном смыслах).
Советская университетская система в позднесоветский период (1950–1980-е гг.) представляла собой разветвленную, широкую, но в то же время стройную и в определенной степени логически отстроенную сеть учреждений, отвечавших интересам и потребностям социальноэкономического развития страны в целом и ее макрорегионов.
Эта сеть университетов представляла собой систему, основанную на особенностях государственного устройства СССР и союзных республик, а также принципов экономического районирования страны.
Если говорить о подходе к генеральной систематизации университетов, то иерархию их можно выстроить на основании значимости этих университетов и их места в научноорганизационной иерархии СССР:
-
• университеты центра ‒ первого уровня (общесоюзного значения) с еще дореволюционной историей: Московский и Ленинградский университеты в первую очередь;
-
• университеты центра ‒ второго уровня («европейские» университеты также еще с досоветской историей): Киевский, Тартусский, Харьковский, Казанский, Одесский в первую очередь и более второстепенные – Пермский, Саратовский, Ростовский;
-
• периферийные университеты, которые делились:
-
‒ на базовые, интегральные университеты союзных республик, имевшие во многом важное политическое значение в деле национально-государственного строительства в союзных республиках (университеты, расположенные в центрах союзных республик);
-
‒ университеты макрорегионального значения (макрорегионы, включавшие в себя несколько смежных регионов, как правило, выстроенные на принципах экономического районирования): для настоящего исследования это ТГУ, ИГУ, НГУ, ДВГУ, УрГУ;
-
‒ университеты регионального значения (составляли иерархию второго уровня внутри макрорегионов): для настоящего исследования это Якутский, Красноярский, Тюменский, Кемеровский, Алтайский, Омский университеты.
Такая уровневая иерархия стала возможной со значительным расширением сети университетов в СССР в годы послевоенного и завершающего рывка советской модернизации, особенно на периферии. Этот количественный и качественный рост университетской сети получил название «университезация».
Наиболее показательным в этом отношении является особый макрорегион – азиатская часть РСФСР, которая включала в себя свои субрегионы с выделением более низких территориальных структур – сибирский субрегион (с выделением Западной и Восточной Сибири) и дальневосточный субрегион (с выделением Северо-Восточного региона, Забайкальского и т.д.).
В азиатской части РСФСР расширение университетской сети в 1960‒1970-е гг. привело к формированию центр-периферийных отношений и выстраиванию трехуровневой иерархии университетов.
На вершине внутренней иерархии находился Новосибирский государственный университет, созданный целенаправленно как научно-образовательный форпост азиатской части страны, изначально задумывавшийся как исследовательский университет, ориентированный на удовлетворение в кадрах не только Академии наук СССР (Сибирского и Дальневосточное отделения АН СССР), но и других университетов, в том числе и среднеазиатских. Координация научных исследований (через работу специализированных советов), подготовка кадров высшей квалификации для университетов и иная деятельность стали для него определяющими, он стал связующим звеном всех университетов азиатской части РСФСР.
Второй уровень представляли собой университеты с еще досоветской традицией: Томский, Иркутский, Дальневосточный, условно сюда же можно отнести Свердловский и Перм- ский (последние относятся в той связи, что для сибирского Зауралья они стали ведущими). Эти университеты были центром экономических районов (западносибирского, восточносибирского, дальневосточного, уральского). Подготовка высокопрофессиональных кадров для нужд промышленности и производства, проведение научных исследований, подготовка кадров и координация научных исследований для региональных университетов были их главными задачами. При этом университеты второго уровня постоянно стремились оспаривать лидерство и приоритет у Новосибирского университета. Традиционные центры «окормляли» постепенно расширявшуюся внутреннюю вузовскую периферию. Расширение это намечалось в направлениях, связанных с социально-экономической модернизацией регионов.
На третьем ‒ локально-региональном ‒ уровне находились университеты регионов (национальные и территориальные субъекты РСФСР).
К концу рассматриваемого периода центр-периферийные отношения в университетской науке Сибири и Дальнего Востока развивались эволюционно, воспроизводя дихотомию центра и внутренней периферии. При этом идущие с ними рука об руку процессы социальноэкономической модернизации регионов имели своим логическим завершением формирование в ряде научно-образовательных центров (Новосибирск, Томск, Иркутск, Свердловск, Владивосток) мощных научных школ и перспективных исследовательских направлений, впоследствии достаточно успешно вписавшихся в постсоветский научный и культурный ландшафт.
«Азиатское научное пространство» в конце этого периода не претерпело существенных изменений в своей структуре, но несколько изменился характер уже сложившихся ранее связей. Наметившаяся децентрализация в управлении наукой обернулась ее регионализацией, проявившейся уже в постсоветский период. Это создавало объективные условия для выхода местного научного сообщества на новые исследовательские рубежи, поиска новых форм организации работ и научной кооперации. С другой стороны, все это несколько ослабляло центр-периферийные связи, приводя к атомизации научных коллективов, что, впрочем, в дальнейшем зачастую способствовало складыванию новых научных школ и направлений, связанных в том числе и с сугубо специфичной проблематикой регионов азиатской части РСФСР.
Список литературы Иерархия университетов внутренней периферии в позднесоветский период: на примере азиатской части РСФСР
- Аузан А.А. «Колея» российской модернизации // Общественные науки и современность. 2007. № 6. С. 54-60.
- Водичев Е.Г., Узбекова Ю.И. «Центр» и «периферия» в развитии отечественной науки второй половины ХХ в. // Уральский исторический вестник. 2008. № 3. C. 11-19.
- История Урала: в 2 т. / отв. ред. Ф.С. Горовой. Пермь: Перм. книжн. изд-во, 1963-1965.
- История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. / гл. ред. А.П. Окладников, В.И. Шунков. Л.: Наука, 1968-1969.
- История рабочего класса Сибири: в 5 т. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1982-1986.
- История крестьянства Сибири: в 5 т. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1982-1991. ЛиссЛ.Ф. Мои университеты. Новосибирск: Параллель, 2013. 442 с.
- Петрик В.В. Становление и развитие главных организационных форм вузовской науки в конце 1950-х - начале 1990-х гг. (на примере высшей школы Сибири) // Известия Том. политехн. ун-та. 2006а. Т. 309, № 1. С. 234-241.
- Петрик В.В. Высшая школа Сибири в конце 50-х - начале 90-х годов XX века. Томск: Том. гос. ун-т, 2006b. 648 с.
- Тихонова Н.Е. Социальная модернизация и перспективы культурной динамики в России // Россия реформирующаяся: ежегодник - 2011 / отв. ред. акад. РАН М.К. Горшков. М.; СПб., 2011. Вып. 10. С. 110-126.
- Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010) / пер. с англ.; под общ. ред. Н.И. Лапина. М., 2011. С. 236-239.
- Суздалева Т.Р. Модернизация в понимании ученых // Модернизация как условие развития современной России: статьи и доклады XI Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 27 мая 2011 г. М., 2011. С. 42-46.
- Суздалева Т.Р., Федоров К.В. «Догоняющая» модель модернизации: теоретические и историографические аспекты [Электронный ресурс] // Гуманитарный вестник. 2013. Вып. 5. URL: http://hmbul.bmstu.ru/catalog/histarch/russhist/67.html (дата обращения: 08.04.2024).
- Узбекова Ю.И. «Центр» и «периферия» в развитии академической науки в восточных регионах страны в XX в.: дис.... канд. ист. наук. Томск, 2009. 195 с.
- Узбекова Ю.И. Трансграничные регионы азиатской России в парадигме центр-периферийных отношений // Многовекторность в развитии регионов России: ресурсы, стратегии и новые тренды / отв. ред. В.Н. Стрелецкий. М., 2017. С. 283-290.