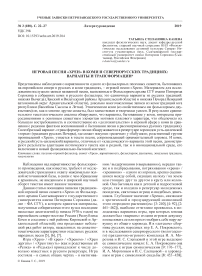Игровая песня "Хрен" в Коми и севернорусских традициях: варианты и трансформации
Автор: Канева Татьяна Степановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3 (180), 2019 года.
Бесплатный доступ
Представлены наблюдения о вариативности одного из фольклорных песенных сюжетов, бытовавших на европейском севере в русских и коми традициях, - игровой песни «Хрен». Материалом для исследования послужили записи названной песни, выявленные в Фольклорном архиве СГУ имени Питирима Сорокина в собраниях коми и русского фольклора; это единичные варианты из русских традиций: нижняя Вычегда (Ленский и Вилегодский районы Архангельской области) и нижняя Печора (Ненецкий автономный округ Архангельской области), довольно многочисленные записи из коми традиций юга республики (бассейны Сысолы и Летки). Этническими коми (со свойственным им фольклорным двуязычием) он, как и многие другие сюжеты, был заимствован и творчески усвоен. В результате сравнительного текстологического анализа обнаружено, что варианты, бытовавшие у коми, интересны присоединениями к основным сюжетным элементам мотивов плясового характера, что обеспечило их большую востребованность и соответственно их «долгожительство» в игровой сфере у коми (в сравнении с редкими фактами воспоминаний о бытовании песни в рассматриваемых русских традициях). Своеобразный вариант-«трансформер» песни обнаруживается в репертуаре хороводов усть-цилемской «горки» (традиция русских Печоры), где сюжет покупки «редечки» у «бабушки», родственный группе произведений «Хрен», узнается в тексте песни, сопровождавшей орнаментальный хоровод. И коми, и русский (усть-цилемский) варианты, отличные от «классического» варианта этой песни, демонстрируют результаты адаптации поэтического текста как в родной, так и в инонациональной среде, его включение в новый функционально-бытовой контекст.
Песенно-игровой фольклор, сюжет "хрен", вариативность, фольклорное двуязычие, локальные традиции, текстология
Короткий адрес: https://sciup.org/147226431
IDR: 147226431 | УДК: 398 | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.304
Текст научной статьи Игровая песня "Хрен" в Коми и севернорусских традициях: варианты и трансформации
Наблюдения над вариативностью фольклорного произведения, как известно, требуют от исследователей стремления к охвату максимально полной источниковой базы, в связи с чем обращение к архивным, не введенным в широкий научный оборот текстам имеет важное значение.
Данная статья посвящена записям традиционной игровой песни сюжета «Хрен» из Фольклорного архива Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (далее – ФА СГУ), в котором хранятся материалы, полученные собирателями этого вуза в последние несколько десятилетий (с начала 1970-х годов) на европейском северо-востоке России (Республика Коми и соседние с ней районы Кировской и Архангельской областей); она продолжает небольшой ряд работ автора, нацеленных на сюжетнотематические характеристики отдельных русских народных песен [5], [6], [7].
Игра «Хрен» / «В хрен» / «Хреном» / «Хрен дергать» / «Хрен тянуть» (как и родственные ей «Репка» и «Редька») принадлежит к числу довольно известных в русском репертуаре. Игра состояла – в самых общих чертах – в вытягива-
нии / выдергивании («вырывании»), нередко также и в подбрасывании, потряхивании «хрена» / «хренинки» – одного из игроков, крепко сцепившихся между собой, сидящих на полу / на земле или стоящих друг за другом в кругу или колонной. Она бытовала как в детской и подростковой среде, так и входила в репертуар молодежных посиделок, святочных игрищ и свадебных девичников. Глубинное значение «Хрена», связанное с эротической и продуцирующей символикой этого огородного растения (см.: [3: 240], [4: 92], [2: 461–462]), наиболее отчетливо проявилось в молодежных вариантах игры, при которых юноша должен был «вырвать» из цепи игроков девушку и поцеловать ее или просто выбрать себе пару-девушку из общего хоровода. И в «детском» сборнике русских народных игр Е. А. Покровского, и в исследовании севернорусского (вологодского) празднично-игрового комплекса И. А. Морозова и И. С. Слепцовой в этой игре выделено ее символическое начало: Е. А. Покровским она отнесена к играм символическим [9: 176–177], И. А. Морозовым и И. С. Слепцовой – к хороводным играм с символикой свадьбы [8: 455–458].
Сопровождавшая это действо песня в записях СГУ и стала объектом внимания в настоящей работе.
Сюжет песни «Хрен» в русских и коми районах европейского северо-востока России, обследованных собирателями Сыктывкарского университета, представлен разными вариантами и оказался интересен нам именно своей вариативностью.
Что касается русских традиций, игровая песня «Хрен» обнаружена в материалах из трех районов Архангельской области: из соседних Ленского и Вилегодского районов (юг области, нижняя Вычегда) и из Ненецкого автономного округа (север региона, нижняя Печора). Это единичные записи второй половины 1980-х годов в сольном исполнении без комментариев о разыгрывании; нижнепечорский вариант – фрагментарный (без окончания), без напева. Такие характеристики в определенной степени свидетельствуют о том, что на момент фиксации песни она давно вышла из активного бытования и в этих богатых песенных традициях сохранялась в пассивной памяти лишь отдельных исполнителей.
Все архангельские записи «Хрена», выявленные в ФА СГУ (ленский, вилегодский, нижнепечорский), относятся к одной группе вариантов рассматриваемого сюжета, в котором соединяются два блока мотивов: о выращивании-«происхождении» «хрена» («Кто тебя садил-поливал? – Садил Иван, поливал Селиван, Селиванова жена / хозяйка огораживала / присматривала, дочь (Катерина) присматривала…») и появлении бояр, которые просят девушку «дать / продать хренку»1. Нижневычегодские записи оканчиваются игровым мотивом – комментарием о выдергивании и подбрасывании «хренинки»:
Выдерну хренину, отряхну, Поставлю, брошу о землю На место, на местечко2.
Общим в поэтических характеристиках главного «персонажа» – хрена – в архангельских вариантах является и определение садовóй ( садовой , полевой в ленском; садовой, полевой, огораживаной в вилегодском; садовой, яровой в нижнепечорском).
Другую группу текстов песни «Хрен», выявленных в ФА СГУ, составляют варианты из
…Ты уплажневскöй, Подбережневскöй.
По дöски, дöски, дöски, Пöлтöдайки пö дöски. Катшыс дöски7, Лöзув мöски8.
Из-за Волги-Визинги, Из-за Питирги.
районов проживания этнических коми. Для их традиций, как известно, характерно явление фольклорного двуязычия, которое, в частности, проявилось в творческом усвоении русских песен, которое неизбежно сопровождалось текстуальными искажениями и переосмыслением отдельных мотивов. Исследуемая песня была записана собирателями СГУ в двух коми районах на юге республики – в Сысольском (в бассейне реки Сысолы) и Прилузском, точнее, в одном из его микрорайонов – в бассейне реки Летки (коми-вятское пограничье).
Сысольские варианты (это 5 записей, сделанных в одном селе – Куратово – в разное время: в 1975 году и на рубеже 1990-х и 2000-х годов) непосредственно от сюжета «Хрен» содержат фрагмент только первой части:
Ой, ты крен, мой крен, Молодой мой крен.
Девки по саду кодил, Девки по зеленой. Да садил меня Иван, Селиванова жена…3
Как видим, песня открывается традиционным обращением к хрену, в котором звучит определение молодой 4. Следующие далее строки («Девки по саду кодил, / Девки по зеленой»), которые можно определить как мотив «девки в саду», с одной стороны, выглядят здесь неуместными, но, с другой стороны, обнаруживают параллель в сольвычегодском варианте этой песни (ср.: «Девка по саду ходила, / Красна по зелену, / В одних она чулках / И без поясу»), хотя там этот фрагмент находится в финальной части (см.: [8: 455]). Полагаем, что в сысольских вариантах этот «сбой» на месте обычного для начала песни вопроса о произрастании хрена («Да и кто тебя садил?…») мог появиться и вследствие фонетических трансформаций этой фразы в процессе адаптации иноязычного текста. Примечательно, что в расшифровке одной из сысольских звукозаписей, выполненной студентом – носителем коми языка, встречаем оформление фразы именно с глаголом «садил»: «Девки пö5 садил-кодил»6.
Остальная – бóльшая – часть сысольских текстов (до 20 строк) представляет собой невнятную в смысловом отношении коми-русскую смесь, подчиненную законам текста плясового характера, см., например:
…Си серебряные,
Си золотаные.
Ко и золотой сапог,
Киукланеськой, Подберезничкой.
По доски, доски, доски, Покидаёт по доски.
Да покимески, розумески. .
Из-за Волги-Визинги,
Из-за Питерьги.
Не страшай кöлачу Петö юр9 лавачорт. Вала, вала иза ключ Скавывал, скавывал. Ко мне батюшко гости, Горемыскаюти.
Жена плакаюти…10
В этих и других примерах можно опознавать лишь отдельные слова и формулы: «золотой сапог», «из-за Волги-Визинги» (Визинга – река, на которой находится село, где были сделаны записи), «по доски, доски, доски», «ко мне батюшка (в) гости», «каша масляная, жена ласковая» и др.
Сысольская песня обозначена в архивных материалах как «рождественская»; так называли и игровые, и плясовые песни.
В Прилузье песня «Хрен» записана собирателями СГУ в довольно большом временном диапазоне – с 1978 по 2007 год. Она бытовала на молодежных игрищах как поцелуйная игра, предусматривавшая вытягивание игрока-хрена из цепи держащихся за дверную скобу юношей и девушек. По свидетельству отдельных исполнителей, она принадлежала к числу любимых игр, о чем говорит и количество записей - порядка двух десятков12.
Прилузский текст состоит из двух частей. Первая – собственно сюжетообразующий блок мотивов, включающий обращение к хре-
Ты рости, рости, коса, Да однолучая пляса, Ко сырой земле, Да шолковöй пояса.
Тройники да двöйники Да се серебреничники, Да ты, попова ты собака…15
В наших материалах, кроме того, есть группа записей песни, близкой к «семейству» сюжетов о хрене. Это песня с инципитом «Я по реченьке потеку…» одной из русских традиций Республики Коми – Усть-Цилемского района (бассейн Печоры). Песня входила в репертуар весеннего хороводного гуляния «горка», где сопровождала орнаментальный хоровод (в виде изломанной цепи), имеющий местное наименование вожжá (от водить) или дóлга (очевидно, как обозначение длинной / долгой цепи, которую образовывали «горочники», бравшиеся за руки). Он являлся кульминацией «горочного» гуляния в целом и (по некоторым указаниям) отдельных его частей.
В усть-цилемском тексте на первый взгляд ничто не обнаруживает родства не только с песнями игры «в хрен», но и с игровыми песнями
Не скачай колачом, Не даю валочом. Вало, вало из-за туч, Кобылась, кобылась. Ко мне батюшки гости Горе мыскаючи, Се но плакаючи, Дай оки, оки горе. Катша с масляная, Жена ласковыя, Жена привередливая11.
ну, вопрос и ответ о его произрастании, например:
Крен ты мой крен, Городочкой крен, Еще кто тебя садил? Да я садил меня Иван, Селиван, Селиван, Селиванова жена Крен укаживала, Крен покаживала Дай огороживала13.
Здесь обращает на себя внимание нетипичная характеристика хрена (в других вариантах также городоцкой, городицкöй, городоцкая, гöрöдöчкой ), условно ее можно обозначить («перевести») как городецкий . Возможно, это переосмысленный или искаженный вариант определения горе-горький (что встречается, например, в прикамских записях)14.
Вторая часть во всех записанных в этом микрорайоне вариантах соединяет оригинальный мотив обращения к косе с пожеланием роста и обрывочные, нередко искаженные строки, возможно, сопровождавшие плясовое завершение игры перед финальным поцелуем:
Ты рости, рости, коса, Однолучшая пляса, Ещё с лёшничком, С поперешничком.
Тройнички да двойнички, Се серебрянички^16
вообще. Он выглядит как изложение загадочного перемещения («течения») некоего героя по реке («Я по реченьке потеку…») к «сладкоречивой», доброй бабушке, хозяйке странного поля - часто огороженного, с вспаханной и небороненой землей, неокупленными семенами и замороженной водой. В совокупности с другими «языками» этого произведения – с медленным темпом пения и соответствующим ему чинным движением хороводной цепи, придающими строгий характер всему действу, текст вполне располагает к мифосемиотическим толкованиям в контексте темы плодородия (змеевидный рисунок хоровода, образы вспаханной земли, семян, воды).
Однако сравнение этой песни с текстами игры «в редьку», близкими играм «в хрен», заставляет совсем по-иному взглянуть на усть-цилемский хоровод.
Сюжет «редьки» строится на мотивах испрашивания «лакомства» у «бабушки» (бабкой / бабушкой в игре выступал передний в веренице «редек» наиболее сильный игрок). В Вятской губернии, к примеру, выявлен следующий текст, сопровождавший игровое «вырывание редьки»:
Хожу, хожу к бабке; прошу, прошу редьки; родилась ли редька? Бабушка добренька, редечка сладенька. Потеку, потеку, у бабушки редьки попрошу! Продай, баба, редьку, продай, баба, сладку!» (затем следует диалог «бабушки» и водящего о готовности / зрелости плода,
Уж ты, хрен мой, хрен, садовой, полевой!
Ах, не я тебя садил, да не я поливал; Садил тебя Иван, поливал Селифан. Селифанова жена присматривала; Его дочь Катерина приговаривала.
Вырву я хренинку, отряхну,
Выведу девицу, усмотрю;
Я ко бабушке потеку, .
У ней редечки попрошу.
Скажу: бабушка добра, добра, добра !
У тя редька сладка, сладка, сладка ,
Редька рано посеянная, часто поливанная. Был у бабы у дуры новой возгород18,
Семена были чужия, покупаемым, .
Вода ношеная , замороженная , . .
Так и брошенная.
Ехали бояре из Нова города,
Ай, увидели девицу на крутом бережку, На крутом бережку, на желтом песку.
Продай, девица, хренку,
Продай, красавица, хренку!
(онежский вариант)19
Во фрагменте о редьке (во «вставке») онежской песни можно уловить шутливую интонацию, свойственную игровым текстам (во всяком случае, в описании огорода «бабы-дуры»), тогда как усть-цилемский «горочный» хоровод приобрел иной характер. Уже сам зачин сопровождавшей его песни, который, очевидно, стал результатом языковой трансформации «редечки» в «реченьку», задает плавное, строгое движение («течение») хоровода.
Примечательно, что и в онежской традиции песня сопровождала не традиционную игру «в хрен» или «в редьку», а наборный хоровод на вечеринке, причем сходной с усть-цилемским вариантом является и хореография песен: как описывает онежский хоровод П. С. Ефименко, парни и девушки поочередно собираются в «вереницу», возглавляющий ее водит хоровод по комнате кругами, «стараясь сделать шествие по возможности запутанными путями». Усть-цилемский хоровод оканчивающийся отрыванием и «метанием» (потряхиванием) одной из «редек») [9: 175].
В русском хороводно-игровом репертуаре известны тексты, в которых объединялись мотивы песен, сопровождавших игры в хрен и в редьку. Один такой «гибрид» (онежский вариант)17 составляет, на наш взгляд, вполне соотносимую пару усть-цилемскому хороводу, и их сравнение проясняет сюжетную основу последнего, ср. (курсив в текстах наш):
Я по реченьке потеку , Да ле я ко бабушке забегу.
Да ле скажёт бабушка добра, добра, добра ,
Да ле у ей реченька сладка, сладка, сладка .
Да ёгорода-та честа, честа, честа, Да ле ёгорода сажена, ой, сажена. Да ле чтой-то земля-та да была ораная, Да земля-та ораная, да не бороненая, Да семена -ти да были купленыя, Да неокупленыя,
Да чтой-то вода -та да была воженая,
Да ле вода-та воженая, Да замороженная .
(усть-цилемский вариант) [1: № 14].
«долга» / «вожжа», исполнявшийся под песню «Я по реченьке потеку…», также предусматривал собирание (набор) «горочников» с чередованием юношей и девушек, женщин и мужчин, и после некоторого хождения цепью перетекал в следующую фигуру – «плетень». Как и на Онеге, в Усть-Цильме песня не обнаруживает (теряет) связи с игрой в вытягивание «хрена» («редьки») и при этом органично включается в хороводные комплексы.
Таким образом, даже эти несистемные записи песни «Хрен» (участники экспедиций не ставили перед собой специальную задачу поиска и фиксации этого сюжета) позволяют обратить внимание на разную степень «востребованности» игрового сюжета в разных местных традициях европейского северо-востока России: если в конце 1980-х годов у русских на нижней Вычегде и нижней Печоре он уже практически полностью забылся, то у коми на
Сысоле и особенно на Летке эта песня получила свое переосмысление и - несмотря на малопонятный текст – дольше оставалась в активном игровом обиходе, поскольку и в 2000-е годы о ней вполне охотно вспоминали информанты старшего поколения. Разнообразные присоединения к основному сюжетному мотиву и их трансформации показывают высокую степень «валентности» песни, ее высокий вариативный потенциал и возможность включения в плясовой и хороводный репертуар.
* Работа выполнена при поддержке Республики Коми и Российского фонда фундаментальных исследований: грант РФФИ и Правительства Республики Коми, № 17-14-11001а(р) «Русский песенный фольклор в коми традициях: системное описание и изучение (на материалах Фольклорного архива СГУ)».
GAME SONG “HORSE-RADISH” IN KOMI AND NORTH RUSSIAN TRADITIONS: VARIANTS AND TRANSFORMATIONS*
Observations on the variability of one of the folklore song plots occurring in the European North in Russian and Komi traditions – the game song “Horse-radish” – are presented in article. Material for the research has been revealed in the Folklore Archive of Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, in the collections of Komi and Russian folklore. Single variants from the Russian traditions have been written down in the lower Vychegda (Lensk and Vilegodsky districts of the Arkhangelsk region) and the lower Pechora (the Nenets Autonomous Area of the Arkhangelsk region). Numerous records have been made in the South of the Komi Republic (the basins of the Sysola and Letka). The ethnic Komi borrowed and creatively assimilated this plot. The comparative textual analysis of the variants of the game song “Horse-radish” plot has been carried out. The variants which occurred in the Komi tradition are notable for adding the dance tune motives to the plot. It has ensured their popularity and longevity in the Komi game culture. In the Russian traditions, the recollections of this song’s existence have been rarely recorded. A peculiar “transformed” variant of the song has been found in the round dances repertoire of Ust-Tsilma “hill” (the tradition of the Russians in Pechora). The plot of purchasing “radish” from a “grandmother” is related to a group of “Horse-radish” works. This plot accompanied an ornamental round dance. The Komi and the Russian (Ust-Tsilma) variants differ from the “classical” variant of this song. They reflect the results of the poetic text adaptation both in its native and the other national environment, as well as its inclusion into a new functional and household context.
Kew words: song and game folklore, “horse-radish” plot, variability, folklore bilingualism, local traditions, textual criticism
* The research was funded by the Komi Republic Government and the Russian Foundation for Basic Research: grant No 17-14-11001а(r) “The Russian song folklore in the Komi traditions: the system description and research (using the materials from the Folklore Archive of Syktyvkar State University)”.
Syktyvkar, 1995. 156 р. (In Russ.)
Список литературы Игровая песня "Хрен" в Коми и севернорусских традициях: варианты и трансформации
- А в Усть-Цильме поют: традиционный песенно-игровой фольклор Усть-Цильмы / Подгот. текстов и коммент.: А. Н. Власов, З. Н. Бильчук, Т. С. Канева. СПб.: Инка, 1992. 224 с.
- Березович Е. Л. Хрен // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 2012. Т. 5. С. 459-462.
- Бернштам Т. А. Совершеннолетие девушки в метафорах игрового фольклора // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб.: Наука, 1991. С. 233-256.
- Б у н ч у к Т. Н. Лингвоментальный образ растения в севернорусской народной культуре: редька // Севернорусские говоры: Межвуз. сб. Вып. 11 / Отв. ред. А. С. Герд. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2010. С. 89-98.
- Канева Т. С. «Золотой след» в коми фольклоре: песня типа «Золото хоронить» в песенных традициях коми (по материалам Фольклорного архива СГУ им. Питирима Сорокина) // Традиционная культура: Научный альманах. 2017. № 4 (68). С. 7-17.
- Канева Т. С. Поэтический «инвентарь» песенного сюжета в контексте местной традиции // Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 4. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2002. С. 25-32.
- Канева Т. С. Тема «гуляния» в усть-цилемском песенно-игровом фольклоре (к вопросу о логике хороводного текста) // Этнопоэтика и традиция. К 70-летию чл.-кор. РАН В. М. Гацака. М.: Наука, 2004. С. 157-165.
- Морозов И. А., Слепцова И. С. Круг игры. Праздник в жизни севернорусского крестьянина (XIX-XX вв.). М.: Индрик, 2004. 925 с.
- Покровский Е. А. Детские игры, преимущественно русские. СПб.: Историческое наследие, 1994. 388 с.
- Стародубцева С. В. Русская хороводная традиция Камско-Вятского междуречья. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2001. 421 с.
- Традиционный фольклор Вилегодского района Архангельской области (в записях 1986-1991 гг.): Исследования и материалы. Сыктывкар, 1995. 156 с.
- Фольклор прилузских коми: Справочно-аналитические материалы / Сост. С. С. Мусанова; Под ред. Т. С. Каневой. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2014. 201 с.
- Фольклорные сокровища Московской земли / Сост., вступит, ст. и словари Т. М. Ананичевой и Е. А. Самоделовой. М.: Наследие, 1998. Т. 2. 424 с.