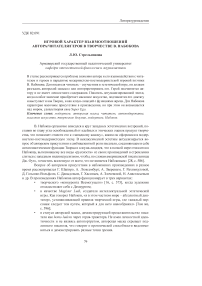Игровой характер взаимоотношений автора/читателя/героя в творчестве В. Набокова
Автор: Стрельникова Лариса Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема значения автора и его взаимодействия с читателем и героем в парадигме модернистско-постмодернистской игровой поэтики В. Набокова. Для писателя читатель - соучастник в эстетической игре, он должен разгадать авторский замысел или интерпретировать его. Герой подчиняется автору и не имеет личностного содержания. Писатель дегуманизированной эпохи, когда особое значение приобретает массовое искусство, подчиняется его диктату и выступает и как Творец, и как клоун-лицедей с функциями жреца. Для Набокова характерно масочное присутствие в произведении, но при этом он возвышается над миром, удовлетворяя свое Super Ego.
Модернизм, авторская маска, читатель, автокодирование, массовое искусство, творческое безумие, набоков
Короткий адрес: https://sciup.org/146278407
IDR: 146278407 | УДК: 82.091
Текст научной статьи Игровой характер взаимоотношений автора/читателя/героя в творчестве В. Набокова
В. Набоков органично вписался в круг западных эстетических воззрений, поставив во главу угла освобожденный от идейных и этических оценок продукт творчества, что позволяет отнести его к «западному канону», каким он оформился в модернистско-постмодернистскую эпоху. В неклассической эстетике актуализируется вопрос об авторском присутствии и амбивалентной роли писателя, соединяющем в себе антагонистические функции Творца и клоуна-лицедея, что в полной мере относится к Набокову, вытеснявшему все виды «русскости» из своих произведений в стремлении слиться с западным индивидуализмом, чтобы, по словам американской писательницы Дж. Оутс, «очистить вселенную от всего, что не является Набоковым» [28, с. 586].
Вопрос об авторском присутствии в набоковских произведениях в разное время рассматривался Г. Шапиро, А. Люксембург, А. Зверевым, Г. Рахимкуловой, Д. Голынко-Вольфсон, С. Давыдовым, Г. Хасиным, А. Злочевской, Н. Анастасьевым и др. В произведениях Набокова автор функционирует в трех вариантах:
-
• творческого «конкурента Всемогущего» [16, с. 575], когда художник отождествляет себя с Демиургом;
-
• в качестве Magister Ludi , создателя интеллектуальной эстетической игры. Как говорил Набоков, «я в этом частном мире – абсолютный диктатор», устанавливающий правила творческой игры, где «каждый персонаж следует тем путем, который я для него навоображал» [Там же, с. 596];
-
• в статусе авторской маски, демонстрирующей представительство писателя как homo ludens через героя-трикстера. Не имея личностной идентичности и не являясь автопортретом, авторская маска скрывает подлинного писателя, что говорит о протеической способности видоизменяться и демонстрировать разные точки зрения.
Каждое произведение Набокова повествует о нем самом, о его собственном видении мира, что писатель считал для себя определяющим, главным по отношению к той художественной ценности, которая должна быть воплощена в литературном произведении, ибо художник должен «создать мир, соответствующий манере мастера, насыщенный тонами, которые нашел он сам!» («Смех в темноте») [21, с. 397].
В создавшейся ситуации не происходит отождествления внутреннего мира героя и читателя с миром его создателя, напротив, по словам М. Медарич, «автор занимает позицию превосходства – он навязывает правила игры и в начале является единственным игроком, знающим правила, но и читателю предоставляет шанс на совместное наслаждение игрой» [11, с. 455]. Набоков неоднократно подчеркивал, что ведет творческую игру с «благодарным читателем, или – что одно и то же – художником» и пишет для «художников – соучастников и соучеников» [16, с. 584]. Автор и читатель становятся участниками одной игры с текстом, при этом читатель также становится художественным объектом, как и персонажи произведения, создавая своего рода игровой круговорот творческого процесса как признак его хаотической бесконечности для закрепления в вечности искусства: «…и не кончается строка» – так обозначит функцию авторского бессмертия герой романа «Дар» [12, с. 330]. Перефразируя Пушкина, Набоков говорил: «Читатель благородный до ужаса нелюбопытен» [14, с. 104], в понимании писателя, «хороший читатель, читатель отборный, соучаствующий и созидающий, – это перечитыватель» [22, с. 25], всегда стоящий ниже автора по интеллектуальному уровню. Так происходит формирование эстетических вкусов массовой публики, что будет характеризовать культуру постмодернизма с ее вовлечением в игровую стихию всего текста, автора и читателя.
Вводя читателя в творческий процесс, Набоков предопределил парадигму постмодернистского искусства, ориентированного на массового зрителя. Оно, как заметит А. Генис, «стремится к сотворчеству. Всеми силами оно пытается втянуть нас в свою орбиту» [5, с. 221]. Писатель преображает в художественную прозу собственную жизнь, помещая в текст похожих на себя, но не тождественных себе героев (Ганин, Федор, Мартын, Герман, Горн и т. д.), что само по себе дезориентирует читателя, заставляя его поверить в идентичность автора и персонажа. Известно, что Набоков призывал не «отождествлять себя с персонажем книги» [18, с. 26], так как это может нарушить игровой дуализм в пользу реалистического переживания описываемых ситуаций. Задача читателя – постараться быть объективным Другим (взгляд со стороны), не стремиться к сопереживанию с героем и «оставаться в стороне, находя удовольствие в самой этой отстраненности, и оттуда с наслаждением <…> созерцать глубинную ткань шедевра» [Там же, с. 27].
По этой причине в произведениях писателя не осуществляется творческого симбиоза автора и героя, Набоков сохраняет дихотомию отношений, разграничивая эти позиции и представляя их как фактор двойничества, взгляд Другого (психологическое раздвоение), при этом «возврата в себя не должно происходить: целое героя для автора-другого должно остаться последним целым, отделять автора от героя – себя самого должно совершенно нацело» [2, с. 18]. Например, в романе «Дар», вступая в творческое соперничество с автором, Федор как его же порождение и одновременно двойник – антипод – в действительности служит лишь замыслу самовозвышения Набокова, утверждения его alter ego , не поднимаясь, как и другие герои романов писателя, выше своего создателя. Совершенно очевидно, что Набоков не делает Федора двойником самого себя, его личность «растворяется» в меняющихся масках, боясь слиться с ним в единое целое: «Тощий, зябкий, зимний Федор
Годунов-Чердынцев был теперь от меня так же отдален, как если бы я сослал его в Якутскую область. Тот был бледным снимком с меня, а этот, летний, был его бронзовым, преувеличенным подобием» [12, с. 299].
Набокова не интересует человек как целостный предсказуемый характер, поэтому художественный мир произведений писателя наполнен прототипами и двойниками – излюбленный способ обесчеловечивания и превращения героя в авторскую марионетку, эстетическую модель как форму для заполнения эстетическим содержанием и одновременно масочной проекции автора, отделенного от своего творения. В постмодернистском представлении о человеке важность приобретает понятие Другого, безумца, нетождественного самому себе, что оказалось свойственно игровому релятивизму набоковской поэтики, не привязанной к художественным догмам и традициям. Во внутреннем содержании героев писателя торжествует гротескная психопатологическая «шизоидная личность», вступившая в конфликтные отношения со всем миром, но, в отличие от трактовки постструктуралистов, его герой совпадает со своим Другим, так как оба находятся за пределами сознания, их экзистенция проявляется в несовпадении с окружающим миром, спасение от которого они видят в состоянии собственного внутреннего раздвоения, переместившегося в область бессознательного (Ганин, Смуров, Лужин, Федор, Мартын и др.).
Воплощая в себе эстетическую онтологию неклассической поэтики, набоковский герой является порождением дегуманизированной децентрированной эпохи постмодернистского деконструктивизма, когда происходит деформация и дестабилизация художественных форм в литературе, разум объявляется помехой творчеству, а дезориентация в мире хаоса изменила природу человека, обезличив его и оставив наедине со своим эстетизированным подсознанием, не совпадающим с традиционными гуманистическими трактовками. В таком герое совместились неконтролируемые инстинкты физиологического бессознательного, а также художественные инстинкты (платоновские демоны), через которые он реализуется как творческий субъект. Правомерно суждение католического философа Романо Гвардини об искажении гуманистической сущности человека, его болезненном погружении в самого себя, превращении в обезличенный объект психологических экспериментов: «Индивид становится сам себе интересен, превращаясь в предмет наблюдения и психологического анализа» [4, с. 185].
Деградация личностного начала, воспринимаемого сквозь призму кривого зеркала, соответствует постмодернистской бодрийяровской классификации утраты образом своей жизненной идентичности и превращения его в симулякр, что происходит на третьей стадии развития образа, когда автор «маскирует отсутствие базовой реальности» [3, с. 23], и отображение принимает «характер чародейства», иначе говоря, приобретает свойства «инакости» обезличенного Другого. На четвертой стадии образ «уже относится не к порядку видимости, а к порядку симуляции» [Там же]. Образ переходит в безжизненный знак, за которым не стоит никакое изображение подлинного человека, игра заключается в том, чтобы «докопаться до сущности», а в итоге убедиться в отсутствии подлинника: «Где тип, где подлинник, где первообраз?» [22, с. 322], – так риторически звучит вопрос Смурова в «Соглядатае». В созданной Набоковым системе искривленных зеркал герой всегда видит психологически неуравновешенного лакановского Другого, двойника, отчужденного от мира, которого ошибочно принимает за собственную индивидуальность. В каждом набоковском герое живет зеркальный двойник самого себя, но, независимо от отрицательного или положительного проявления двойничества, его вторая, отраженная сущность оказывается выше и значительнее подлинной, так как именно в ней заключено творческое начало: «Жизнь только портила мне двойника», – скажет набоковский Герман из «Отчаяния» [19, с. 341].
В своем стремлении к самоутверждению и перманентному существованию в тексте Набоков презентует себя как мифологического Творца, не появляясь открыто, но обряжаясь в маску для того, чтобы скрыться за ней, и в то же время делает ее признаком элитарности, выделенности, той границей, за которой писатель скрывается от читателя, так как его истинного лица читатель не должен узнать никогда. Категория авторской маски ( author’s mask ) будет предложена американским постмодернистом Мамгреном как связующий центр децентрированной структуры, «именно она служит камертоном, который настраивает и организует реакцию имплицитного читателя, обеспечивая тем самым необходимую литературную коммуникативную ситуацию, гарантирующую произведение от “коммуникативного провала”» [7, с. 8] для возбуждения читательского интереса. Не имея личностной идентичности, авторская маска кодирует и скрывает писателя и одновременно заявляет о его присутствии, позволяя говорить о протеической способности видоизменяться и демонстрировать разные точки зрения, ни одна из которых не может претендовать на истинность. С помощью масочности автор запутывает читателя, происходит смешение масок, герои, как и автор, играют с читателем, вводя их в обман и иллюзию, создавая троичную систему участников зрелища, чтобы скрыть истину, о чем Набоков «предупредит» в американском романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта»: «…остерегайся и честнейшего из посредников. Помни, все, рассказанное о тебе в действительности трояко: скроено рассказчиком, перекроено слушателем и скрыто от обоих мертвым героем рассказа» [20, с. 43].
Набоков смотрит в свое творчество, как в увеличительное зеркало, где видит отражение своего искаженного гипертрофированного Alter ego , Другого под названием Magister Ludi в маске гения: «…я ношу маску, я всегда под маской…» [22, с. 340], – признается набоковский герой-маска в «Соглядатае». В своем психоанализе К. Юнг утверждал, что в сознании человека может существовать несколько личин, с помощью которых он «обманывает других, а часто самого себя» [27]. К. Юнг предлагает называть человека с «расщепленным характером» маской (Persona), соотносимой с «маской древнего актера» [Там же]. То есть человек, по К. Юнгу, на протяжении всей жизни играет определенную роль, зная, что выбранная им маска «соответствует, с одной стороны, его собственным намерениям, с другой – притязаниям и мнениям его среды» [Там же]. Концепция маски К. Юнга выявила способность личности к игре как ее психологическую установку, что отразилось в модернистской и постмодернистской литературе, где человек утрачивает всякое подобие с подлинником и становится образом – симулякром, построенном на «несоответствии и различии» [6, с. 335].
Отражая топологию карнавала, маска скрывает истинное лицо, подменяя низменное возвышенным, уродливое прекрасным, поэтому, представляясь в произведении через маску героя, Набоков презентует самого себя; как охарактеризует подобную карнавальную маску-личину М. Бахтин, «единого лика автора нет, он разбросан или есть условная личина» [2, с. 22]. Набоковская маска всегда фальшива и иронична, поэтому функционирует «в специфической роли своеобразного “трикстера” <…> он прежде всего издевается над ожиданиями читателя, над его “наивностью”, над стереотипами его литературного и практически-жизненного мышления» [7, с. 8]. Примером самовозвышения через актерскую маску может служить театра- лизация жизни римского императора Нерона, как ее описывает Ю. Лотман в книге «Культура и взрыв», что применимо к личности Набокова: «Нерон, однако, придает маске черты портретного сходства с самим собой. Таким образом, если маска актера как бы стирает его внетеатральную личность, то здесь она, наоборот, выпячивается. Но собственное лицо Нерона для того, чтобы стать частью спектакля, должно быть уничтожено и восстановлено, то есть заменено своей собственной маской» [10, с. 47].
Художнику неклассической эпохи не свойственна вера в некий рациональный миропорядок, он поддерживается теперь комическим вдохновением, предлагая смотреть на искусство как на игру, как, в сущности, на насмешку над самим собой» [23, с. 262]. Набоков сам часто играет двойную роль автора и актера, проявляя, подобно Нерону, страсть к маскарадности, смешивая театр и жизнь; как верно заметит Ю. Кристева, «тот, кто произносит слово, его же и производит; сказать и произвести отождествляются поверх всяких различий между ними» [9, с. 550]. Одним из необходимых, по мнению писателя, признаков оригинальности творчества является проекция самого себя в произведении в масочном присутствии, что придает ему большей загадочности: «Однако художник, – заявляет В. Ходасевич, – нигде не показан им прямо, а всегда под маскою: шахматиста, коммерсанта и т. д.» [25, с. 224]. Набоков довел идею игрового принципа до апогея, показав всем своим творчеством, что литература – это игровое зрелище, в котором участвуют три стороны – актер (герой), автор и публика (читатель); в целом же весь текст, как сформулирует эту мысль в модернистской поэтике Р. Барт, «требует от читателя деятельного сотрудничества», и далее, следует обратиться к примеру Малларме, желавшего, “чтобы книгу создавала аудитория”» [1, с. 422].
В книге «Другие берега» Набоков раскрывает принцип творческой игры между автором и читателем, говоря, что «в произведениях писательского искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателями», когда автор сам творчески руководит игрой, ставя перед партнерами задачи, и по праву Magister Ludi требует поиска не рациональных, а «иллюзорных решений», «ложных следов и других подвохов», чтобы ввести читателя в заблуждение и «поддельной нитью лже-Ариадны опутать вошедшего в лабиринт» [13, с. 290], что и является фактором симуляции творчества, когда отражение реальности подменяется ее подделкой, ложью фантазма.
Особенностью набоковской маски является ее нарциссизм, что является проявлением авторской саморефлексии. Изобретая свой творческий мир как искусство новоявленного Нарцисса, Набоков, по замечанию Г. Шапиро, помещает в произведения «мириады собственных лиц» (парафраз набоковского парафраза), прибегая к «разнообразному и изощренному автокодированию» [26, с. 30], чтобы незримо, но узнаваемо демонстрировать свое демиургическое присутствие в тексте. По признанию Набокова, его «зачаровывали пророческие даты» [15, с. 602], поэтому писатель буквально в каждом произведении шифрует «свое присутствие значительными и загадочными для него датами» [26, с. 30] (как правило, это дни рождения Пушкина, Шекспира, Гоголя и собственно автора), историческими событиями, анаграммами (Ван Бок, Вивиан Дамор-Блок, Омир ван Балдиков и др.), использует хроместезию (соответствие цвета буквам имени), иконичность алфавита (использование первых букв имен персонажей или других слов, чтобы показать присутствие автора). В комплексном автокодировании Набоков прибегает к интермедиальным источникам: кино, живопись, шахматы, – то есть он сам выступает, по словам Г. Шапиро, как «в высшей степени homo ludens…, ради игры «осознавая себя в своей художественной вселенной «антропоморфическим божеством», где шифры своего присутствия и есть «божественные знаки», выявляющие «присутствие автора» [Там же, с. 36].
В подобной клоунской маске Директора мюзик-холла писатель появляется в романе «Камера обскура». Словно многоликий Приап, он «был существом трудноуловимым, двойственным, тройственным, отражающимся в самом себе, – переливчатым магическим призраком, тенью разноцветных шаров, тенью жонглера на театрально освещенной стене» [17, с. 135]. Именно таким должен быть в представлении Набокова художник – творец искусства новой эпохи, он же клоун – лицедей, рядящийся в одежды жреца от искусства. Авторское присутствие выступает у Набокова как прием деконструкции текста, изменяющий его структуру в направлении свободы интерпретации, «способствуя появлению “читательского метатекста”» [7, с. 8].
Отсюда следует вывод, что для Набокова не характерен провозглашенный Р. Бартом постмодернистский принцип «смерти автора», напротив, он не растворяется в голосах своих героев и читательском видении, а возвышается над ними, выступая в функции как участника игры ( homo ludens ), так и ее создателя ( Magister Ludi ), существуя в тексте в статусе демиургического Автора, и также выступает как комический трикстер, благодаря чему происходит разрушение приоритета монологического автора и установление диалогических отношений, свойственных игре (карнавалу), где «символические отношения и принцип аналогии преобладают над субстанционально-каузальными отношениями» [8, с. 436]. Автор не может позволить себе умереть, предоставив героев и приёмы самим себе, как это будет свойственно постмодернистам, поскольку куклы без кукловода недееспособны и неинтересны.
В стремлении выявить свою фантастическую изменчивость он использует маски ложных авторов (часто это герой – представитель автора), чтобы зашифровать, но не скрыть собственное присутствие. В роли двойников – представителей выступают, например, Ганин, Мартын, Федор и др. Наделенные чертами автобиографии Набокова, эти герои вводили в заблуждение исследователей, увидевших в них писательских прототипов, что не может быть верным, так как герой интересует автора только как эстетический субъект, который распадается в бесчисленных зеркальных отражениях, приводя личность к самоуничтожению ради трансформации ее в артефакт, и тогда человек функционирует как театральная марионетка, чья жизнь служит сюжетом развлекательного представления в отраженном экранном зеркале, созданном воображением режиссера, Magister Ludi , организующем увлекательную фантастическую игру: «По желанию моему я ускоряю или, напротив, довожу до смешной медлительности движение вех этих людей, группирую их по-разному, делаю из них разные узоры, освещаю их то снизу, то сбоку… Так, все их бытие было для меня только экраном» [22, с. 339].
В связи с ростом популярности массовых жанров в искусстве XX века (кино, мюзик-холл, цирк и т. п.) игра становится особым родом художественной коммуникации, привлекая читателя и автора как участников зрелищного действа, произойдет, по словам А. Гениса, то, что «аудитория теперь должна не сочувствовать, а соучаствовать. Художник, соблазняющий нас тем, что зовет в соавторы, больше не певец, он – запевала. Его искусство сводится к провокации нашего воображения, к организации не своего, а нашего художественного творчества» [5, с. 221]. Создатель нового искусства, обладающий творческим даром, чтобы стать гением, должен уметь в художественной форме доносить до читателя правду о лжи и видеть мир по ту сторону реального и серьезного, в духе теории Й. Хейзинга, «в пер- возданной стране…, в царстве грезы, восторга, опьянения, смеха» [24, с. 121], где господствует не личностно обусловленный автором персонаж, а его эстетический отпечаток, в подсознании которого оформляется «на грани сознания и сна всякий словесный брак, блестя и звеня…» [17, с. 316], обнажая внутреннюю жизнь писателя как узаконенное платоновским идеализмом творческое безумие. Значимо то, что указанные способы автокодирования, демонстрирующие игровой подход писателя и к самому себе, и к своим героям, не вступают в противоречие с «божественным» присутствием автора и его функцией homo ludens, что позволяет говорить о симбиозном взаимодействии позиции «жреца и клоуна», но при этом художник превыше всех образов ставит свой собственный, считая его зеркальным отражением бога.
Список литературы Игровой характер взаимоотношений автора/читателя/героя в творчестве В. Набокова
- Барт Р. От произведения к тексту//Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 413-424.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Тула, 2013. 204 с.
- Гвардини Р. Конец нового времени//Самосознание культуры и искусства XX века. Западная Европа и США. М.; СПб: Университетская книга. 2000. 640 с.
- Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. М.: Независимая газета, 1997. 256 с.
- Делез Ж. Логика смысла (вторая половина). М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 480 с.
- Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: Интрада, 2001. 376 с.
- Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман//Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М.: Прогресс, 2000. С. 427-457.
- Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Рос. полит. энциклопедия, 2004. 656 с.
- Лотман Ю. Культура и взрыв. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2000. 704 с.
- Медарич М. Владимир Набоков и роман XX столетия//В. В. Набоков: Pro et contra. СПб.: Русский Христианский гуманитарный ин-т, 1997. С. 448-468.
- Набоков В. Дар//Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М.: Правда, 1990. С. 5-330.
- Набоков В. Другие берега//Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Правда, 1990. С. 133-302.
- Набоков В. Заметки переводчика//В. В. Набоков: Pro et contra. СПб.: Русский Христианский гуманитарный ин-т, 1997. С. 102-133.
- Набоков В. Интервью А. Аппелю, 1966//В. Набоков. Собр. соч. американского периода: В 5 т. Т. 3. СПб.: Симпозиум, 1997. С. 589-621.
- Набоков В. Интервью в журнале "Playboy", 1964//Набоков В. В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. Т. 3. СПб.: Симпозиум, 1997. С. 562-588.
- Набоков В. Камера обскура. СПб.: Азбука, 2015. 224 с.
- Набоков В. О хороших читателях и хороших писателях//Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 1998. С. 23-29.
- Набоков В. Отчаяние//Набоков В.В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М.: Правда, 1990. С. 333-462.
- Набоков В. Подлинная жизнь Себастьяна Найта. СПб.: Северо-Запад, 1993. 527 с.
- Набоков В. Смех в темноте//В. Набоков. Собр. соч. американского периода: В 5 т. Т. 2. СПб.: Симпозиум, 1997. С. 392-564.
- Набоков В. Соглядатай//Набоков В.В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 299-345.
- Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. Восстание масс. М.: Ермак, 2005. 269 с.
- Хейзинга Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры. М.: Прогресс-Традиция, 1997. 416 с.
- Ходасевич В. О Сирине//Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. Критические отзывы, эссе, пародии. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 219-224.
- Шапиро Г. Поместив в своем тексте мириады собственных лиц//Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 30-36.
- Юнг К. Психологические типы. СПб.: Азбука, 2001. //Библиотека Максима Мошкова. URL: http://lib.ru/PSIHO/JUNG/psytypes.txt. (Дата обращения: 25.11.2017.)
- Oates D. C. A Personal View of Nabokov//Saturday Review of the Arts. 1973. № 1. P. 36.