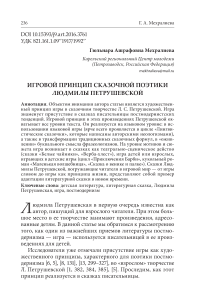Игровой принцип сказочной поэтики Людмилы Петрушевской
Автор: Мехралиева Гюльнара Ашрафовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Объектом внимания автора статьи является художественный принцип игры в сказочном творчестве Л. С. Петрушевской. Игра знаменует присутствие в сказках писательницы постмодернистских тенденций. Игровой принцип в этих произведениях Петрушевской охватывает все уровни текста. Он реализуется на языковом уровне: в использовании языковой игры (ярче всего проявляется в цикле «Лингвистические сказочки», которые написаны авторскими неологизмами), а также в трансформации традиционных сказочных формул, в «оживлении» буквального смысла фразеологизмов. На уровне мотивов и сюжета игра возникает в сказках как театрально-сценическое действо (сказки «Белые чайники», «Верба-хлест»), игра детей или взрослых, играющих в детские игры (цикл «Приключения Барби», кукольный роман «Маленькая волшебница», «Сказка о венике и палке»). Сказки Людмилы Петрушевской, погружающие читателя в игровой мир - от игры словом до игры как принципа жизни, представляют собой пример адаптации литературной сказки в новом времени.
Детская литература, литературная сказка, людмила петрушевская, игра, постмодернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14748994
IDR: 14748994 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3761
Текст научной статьи Игровой принцип сказочной поэтики Людмилы Петрушевской
Л юдмила Петрушевская в первую очередь известна как автор, пишущий для взрослого читателя. При этом большое место в ее творчестве занимают произведения, адресованные детям. В данной статье мы обратимся к рассмотрению того, как один из важнейших приемов литературы постмодернизма — игра — используется писательницей в ее произведениях для детей.
Исследователи уже отмечали присутствие игры как художественного принципа, характерного для поэтики постмодернизма [6, 5], [8, 131], [13, 299–327], во «взрослом» творчестве Л. Петрушевской [1, 382, 384, 385], [5]. Проследим, как этот принцип реализуется в сказках писательницы.
Игра охватывает все уровни сказочных произведений Л. Петрушевской, что подтверждает сказанное болгарской исследовательницей М. Т. Славовой об особенностях функционирования игры в детской литературе: «Игра — это образ и форма в беллетристическом произведении для детей. Она может быть мотивом в тематическом слое произведения, моделью персонажной системы, конфликтным ядром и схемой в сюжетной организации текста, композиционным приемом и стилево-языковым средством» [11, 53].
В сказках Людмилы Петрушевской в первую очередь обращает на себя внимание языковая игра, в сконцентрированном виде присутствующая в цикле «Лингвистические сказочки». Этот цикл состоит из произведений, полностью написанных придуманными ею словами. Первая сказка цикла «Пуськи бятые» открывается так: «Сяпала Калуша с калушатами по напушке. И увазила бутявку…» ( 1996 , 79)1. Угадывание смысла в незнакомых, несуществующих словах превращается для любого читателя, независимо от его возраста, в игру.
Языковая игра принимает в сказочном творчестве Петрушевской и другие формы. На них обратила внимание одна из первых исследовательниц творчества Петрушевской М. И. Громова. О сказочных пьесах Петрушевской она пишет: «Автор погружает читателя и зрителя в стихию языковых игр, столь любимых детьми. В “Золотой богине” она придумала забавные балаганные сценки-диалоги клоунов Бима и Бома, комически-алогичные, сопровождающиеся смешными клоунскими трюками. В “Двух окошках” есть и игра в рифмы, и “нескладушки” в ритме детской считалки… “Марш электромонтеров” в той же пьесе откровенно пародирует многочисленные пионерские речевки. Изобретательность Петрушевской в этой области безгранична и остроумна: здесь и розыгрыши, и комическое обыгрывание многозначности слова, словесные загадки» [4, 80–81].
Уже первые фразы многих сказок Петрушевской демонстрируют трансформацию традиционных сказочных формул: «Жил-был верблюд танцующий» («Верблюжий горб»); «Жил-был молодой осел, у которого была маленькая неприятность, т. е. четыре уха» («Молодой осел»); «Однажды в магазин явилась мамаша с ребенком купить ему ручку» («Волшебная ручка»). Так своеобразная авторская интонация и стремление к предельной лаконичности, свойственные всей прозе Л. Петрушевской, прорываются сквозь формульность сказочных зачинов, и за привычным «жили-были» читатель уже видит и авторскую волю писательницы, которая обыгрывает привычные формулы.
Несмотря на смягченную по сравнению с произведениями для взрослых, манеру повествования в сказках (гораздо меньше ненормативной и нет табуированной лексики), в них также используются жаргон, просторечия, окказиональная лексика и синтагматика. Справедлива характеристика стиля сказок писательницы, данная Т. Н. Марковой: «Петрушевская всецело отдается власти стихии устного слова, творя его формами и своеобразный словарь, и фразеологию, и синтаксис. Не ограниченное в стилевом и синтаксическом отношении повествование образует своеобразный лексический коллаж, в котором парадоксально сочетаются контрастные речевые стили» [9, 265].
Некоторые сюжетные ходы в «кукольном романе» Л. Петрушевской «Маленькая волшебница» основываются на обыгрывании фразеологизмов. Так, выражению «заморить червячка» возвращается буквальный смысл. Волшебница Валькирия часто ленится принимать, по своему обыкновению, вид вороны, чтобы поесть любимых ею червей: «…Валька <…> будучи в душе вороной, иногда даже сидела на пустыре и рылась насчет червячков, которыми тут же и закусывала <…>. Мало ли кто как ест. Ну захотелось червячка заморить, ну и ладно» ( 2000 , 410).
Литературная сказка, преимущественно опираясь на поэтику фольклорной волшебной сказки, может и не описывать обязательных для волшебной сказки чудес. Один из характерных примеров — роман-сказка Ю. Олеши «Три толстяка», который, несмотря на отсутствие в сюжете чудес, воспринимается читателем как сказка. По мысли М. Н. Липовецкого, сказочность в «Трех толстяках» «выражается прежде всего игровой атмосферой, возникающей в результате взаимодействия тех игровых элементов, которые присутствуют в хронотопе и в субъектной организации, и на речевом уровне…» [7, 100]. «Бесчудесные», по выражению Липовецкого, сказки есть и у Петрушевской. К ним относятся «Сказка про веник и палку», «Глупая принцесса», «Королева Лир»,
«Верба-хлест», «За стеной», «Остров летчиков». Но сомнений в сказочности этих произведений не возникает. Например, в сказке «Королева Лир» игровая атмосфера возникает в результате множества забавных положений, в которые попадает королева в процессе своего приобщения к миру простых людей.
Особое место в игровом мире сказок Л. Петрушевской занимает игра на сцене. Во многом это обусловлено театральным опытом автора: непродолжительным периодом, когда она сама выходила на сцену, сотрудничеством со многими театрами, личным общением с режиссерами и актерами.
В сказках «Белые чайники» и «Верба-хлест» тема театра находится в центре авторского внимания. В «Белых чайниках» мы видим внутреннюю театральную «кухню»: режиссер театра ставит спектакль так, чтобы постоянное присутствие на сцене белого чайника не выглядело странным. Его усилия, которые приводят к концептуальным декорациям и режиссерским решениям (например, чайники, изображающие птиц в лесу), вызывают благосклонную реакцию публики: «Весь город только и говорил, что о новом театре белых чайников, о прекрасных новых артистах — белых чайниках, которые играют все роли» ( 1996 , 112). Таким образом, довольно ограниченные возможности театра оказываются способны справиться с волшебством.
В сказке «Верба-хлест» театральное искусство служит целям злой королевы: чтобы доказать иностранной комиссии, что в Доме скорби (психиатрической больнице) соблюдаются права человека, она объявила его Школой драматического искусства, приказала «для больных ввести звания “студент” и “выпускник” (выпускниками в шутку называли самых древних старичков и безнадежных больных) — что же касается санитаров, то они отныне именовались “педагоги по технике речи”, а врачи носили звание “мастеров”. Буйное отделение имело отдельную вывеску “Курсы пластической импровизации”» ( 1996 , 245).
Все больные Дома скорби становятся невольными участниками спектакля, срежиссированного королевой, в котором любая примета больницы выглядит аутентично театральной постановке: «…педагог по технике речи играл роль свирепого надсмотрщика настолько удачно и был так хорошо загримирован, что комиссия даже зааплодировала — судите сами: на голове шерсть до бровей, носа нет, одни дырки, зато брови мощные, как руль у велосипеда» (1996, 247). В этой страшной действительности, притворяющейся игрой, находится место и «спектаклю в спектакле» — «пьесе на двоих “Казнь”», участники которой — настоящий маньяк и заключенный королевой слуга короля.
Игра в театре — лишь одно из проявлений игры. В своем исконном (узком) понимании игра обычно ассоциируется с игрой детей. Игры девочки подробно описываются в «Сказке о венике и палке». Она «много гуляла, скакала и прыгала, кричала, смеялась, проявляла свою силу и ловкость!» ( 1996 , 262). Оставшись без родительской опеки на целый вечер и ночь, девочка может играть во все, что захочет. «Она заткнула ванну пробкой и стала напускать туда воду, а потом в эту воду налила весь шампунь, который был в доме, и пустила плавать стаканчик с зубными щетками, затем положила туда же мамину шляпу и мамины туфли, чтобы их постирать, кастрюлю с гречневой кашей, чтобы ее помыть, но кастрюля тут же захлебнулась и пошла ко дну» ( 1996 , 264).
«Игра во всех своих формах, — пишет Вильгельм Вундт, — начиная с игры ребенка и вплоть до азартной и умственной игры взрослых, возникает из стремления к счастью» [3, 111]. Но в «Сказке о венике и палке» осуществление «давнишней мечты» девочки, связанной с игрой, не приводит ее к счастью. Этому мешает не только мысль о пропавших родителях (которые сами сбежали от своего непослушного ребенка), но и отсутствие компании для игры. Игра заканчивается тем, что девочка «горько заплакала и сразу заснула <…>, сидя в луже» ( 1996 , 266).
Логично было бы ожидать описания детских игр в цикле сказок «Приключения Барби» и в кукольном романе «Маленькая волшебница», выросшем из этого цикла, но герои-дети, в том числе маленькая хозяйка Барби Маши, находятся в этих произведениях на заднем плане, а с куклами играют взрослые — дед Иван и телевизионный редактор. Дед Иван, строя и обустраивая дом для Барби, восполняет то, чего ему не хватало в детстве, — постановок в кукольном домике, потому что «все считали, что это не занятие для мальчика» ( 2000, 326).
Телевизионный редактор, придя к деду Ивану, «ахнула и как маленькая девочка опустилась на колени перед подоконником, стала трогать и передвигать мебель, разглядывать занавески, подушечки и картины в красивых рамах» (курсив мой. — Г. М. ) ( 1996 , 94). Очевидно, что эта взрослая и серьезная дама, как и дед Иван, была рада любой возможности погрузиться в мир игры.
В «Маленькой волшебнице», по сравнению с «Приключениями Барби», тема игры развивается и обогащается. Мир телевидения, показанный в цикле сказок глазами посторонних (деда Ивана и Барби Маши), в романе становится местом действия и предметом художественного интереса Петрушевской, которая, к слову, некоторое время работала на телевидении и писала внутренние рецензии на телепередачи. Телевидение в «Маленькой волшебнице» выступает, с одной стороны, как мощное оружие, а с другой — как орудие манипулирования, поэтому неслучайно оно так привлекает злую волшебницу Вальку. Телевидение размывает границы фикции и реальности, оно — один из тех «симулякров» (термин Ж. Бод-рийяра [2]), подобие без подлинника, появившихся в XX веке, которые стали предпосылками возникновения постмодернизма. Люди на телевидении не только играют, но и заигрываются, не замечая, что творимый ими мир, недолговечный и искусственный, заслоняет то, что реально. И в «Приключениях Барби», и в «Маленькой волшебнице» редактор и другие телевизионщики не замечают, что старик, выигравший на их конкурсе народных умельцев огромный торт, вот-вот упадет в голодный обморок, а врачи в больнице, куда привезли уже потерявшего сознание деда Ивана, не догадались его покормить, зато все проголосовали за его победу в конкурсе, не узнав в конкурсанте своего пациента.
Характерно название одной из глав романа — «Игры с телевидением»: несмотря на то что главной героине в ходе программы грозит смерть, а всему миру — порабощение злой и неблагодарной Валькой, происходящее определяется как игра. Такой взгляд не совпадает с обывательским представлением об игре как о чем-то несерьезном, в большей степени присущим миру детей, но находится в русле культурологических, антропологических, психологических концепций, возникших в XX веке, которые возводят многообразные формы человеческой деятельности к игре. Телевидение как замкнутое и отгороженное пространство является идеальным местом для игры. Как пишет Й. Хейзинга, «арена цирка, игральный стол, волшебный круг, храм, сцена, экран синематографа, судное место — все они по форме и функции суть игровые пространства, то есть отчужденная земля, обособленные, выгороженные, освященные территории, на которых имеют силу особенные, собственные правила» [12, 20].
Изображение телевидения в «Маленькой волшебнице» схоже с тем, что мы видим в сказке «Верба-хлест». Оно становится местом средоточия жестокости и насилия в руках королевы, которая установила в государстве настоящий тоталитарный режим, причем телевидение и в этом случае становится не отражением, бесстрастно фиксирующим все происходящее, а удобным средством в руках тирана. «Теперь казни производились регулярно по воскресеньям, шла прямая телетрансляция, разыгрывались пари — помилуют преступника или не помилуют <…>. Народ наконец получил что хотел, не отлипая от телевизоров» ( 1996 , 242).
Все люди этого государства оказываются участниками игры, в которой они играют на собственные жизни и жизни других. Согласие народа с политикой королевы объясняется не только тем, что в государстве наконец-то «наведен порядок», дело еще и в том, что каждый человек становится потенциальным участником кровавого реалити-шоу: «Риск, счастливый случай, неуверенность в исходе, напряжение составляют суть игрового поведения» [12, 67].
Сказка «Верба-хлест» обнаруживает несомненную связь с рассказом Хорхе Луиса Борхеса «Лотерея в Вавилоне». В этом рассказе классика постмодернизма повествуется о лотерее, в которую оказалась вовлеченной целая страна и в которой не только выигрывают, но и проигрывают, причем играют не на деньги, а на собственную судьбу. Помимо совпадения темы, сказка Петрушевской повторяет и ряд борхесовских мотивов (одобрение игры народом; ее размах; смерть, тюрьма, увечья и пытки как следствие случая). «Как все мужчины в Вавилоне, я побывал проконсулом; как все — рабом; изведал я и всемогущество, и позор, и темницу. Глядите, на правой руке у меня нет указательного пальца. <…> Народ достиг полного осуществления своих благородных целей. Прежде всего он добился того, чтобы Компания взяла на себя всю полноту власти. <…> Во-вторых, он добился, чтобы лотерея была тайной, бесплатной и всеобщей. <…> Счастливый розыгрыш мог возвысить его (всякого свободного человека. — Г. М.) до Совета магов, или дать ему власть посадить в темницу своего врага (явного или тайного), или даровать свидание в уютной полутьме опочивальни с женщиной, которая начала его тревожить или которую он уже не надеялся увидеть снова; неудачная жеребьевка могла принести увечье, всевозможные виды позора, смерть»2.
Может показаться, что в сказке Петрушевской жизнью в сказочном государстве так же, как и у Борхеса, управляет игра. Стоит, однако, заметить, что всеохватность и бесконечность розыгрышей и жеребьевок в «Лотерее в Вавилоне» сводит значение этой игры к самой игре. Хаос, утверждаемый постмодернизмом как основа мироздания (его символом у Борхеса выступает лотерея), в сказках Петрушевской, прошедших через искушение постмодернизмом, отвергается. Сказочная гармония, венчающая сказку, достигается с помощью чуда — как в «Приключениях Барби», «Маленькой волшебнице», или другим способом — как в сказке «Верба-хлест» (группа иностранных правозащитников, разоблачившая королеву). Это объясняется тем, что концепция мира как хаоса противоречит самой сути сказки; восстановление жизненного и мирового порядка — необходимое условие существования этого жанра, которое, несмотря на бесспорные постмодернистские тенденции, реализуется в сказках Петрушевской.
Игра охватывает все уровни сказочных произведений Л. Петрушевской: она проявляется на уровне языка (игра слов, каламбуры, неологизмы), в мотивной и образной структуре повествования; игра, особенно игра на сцене, становится двигателем сюжета. В целом игровая поэтика, характерная для сказок писательницы, выступает в качестве ключевого жанрообразующего фактора.
Сказки Петрушевской, полные нарочитой интертекстуальности, погружающие читателя в игровой мир — от игры словом до игры как принципа жизни, синтезирующие в себе разные фольклорные и литературные жанры, представляют собой пример адаптации литературной сказки в новом времени. Один из важнейших показателей соотнесенности сказок и современной литературной ситуации — присутствие в сказках Петрушевской постмодернистских тенденций.
Отметим, что необходимость разработки данной темы является частью проблемы сближения исследований «взрослой» и «детской» литературы. На этот исследовательский «разрыв» указывал Е. М. Неёлов: «Отечественная детская литература и ее филологическое изучение развивались и развиваются в известном смысле самодостаточно и независимо от “взрослой” литературы и “взрослого” литературоведения. <…> Однако <…> возможен и другой подход, не исключающий, а лишь дополняющий первый. Он предполагает попытку сблизить “детское” и “взрослое” литературоведение в неком едином исследовательском поле» [10, 4–5].
Ориентация сказок Петрушевской в первую очередь на детского читателя убеждает в невозможности выстраивания постмодернистского художественного мира, поскольку игра (как и ирония), характерные для постмодернизма, ребенку непонятны. Это дает нам основание утверждать, что, вбирая в себя другие жанры, отдавая дань постмодернизму, сказки Л. Петрушевской все же остаются сказками, ориентированными в первую очередь на читателя-ребенка.
THE GAME PRINCIPLE IN THE POETICS
OF LYUDMILA PETRUSHEVSKAYA’S FAIRY TALES
Дата поступления в редакцию: 07.08.2015
Список литературы Игровой принцип сказочной поэтики Людмилы Петрушевской
- Богданова О. В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60-90-е годы ХХ века -начало ХХI века). -Санкт-Петербург: Филол. фак-т СПбГУ, 2004. -716 с.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. -Москва: Постум, 2015. -240 с.
- Вундт В. Фантазия как основа искусства: пер с нем. -Санкт-Петербург-Москва: Издание т-ва М. О. Вольфа, 1914. -146 с.
- Громова М. И. Сказка в творчестве Л. С. Петрушевской//Литературная сказка. История, теория, поэтика: сб. ст. и материалов. -Москва: Московский гос. пед. ун-т, 1996. -С. 78-81.
- Ефимова Н. Мотив игры в произведениях Л. Петрушевской и Т. Толстой//Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. -1998. -№ 3. -С. 60-71.
- Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. -Москва: Интрада, 1998. -256 с.
- Липовецкий М. Н. Поэтика литературной сказки (на материале русской литературы 1920-80-х годов). -Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1992. -184 с.
- Маньковская Н. Б. Постмодернизм//Культурология, ХХ век. Энциклопедия: в 2 т. -Санкт-Петербург: Университетская книга, 1998. -Т. 2. -С. 130-132.
- Маркова Т. Н. Формотворческие тенденции в прозе конца XX века: дис. … д-ра филол. наук. -Челябинск, 2005. -379 c.
- Неёлов Е. М. Сказка и литература: судьба Царевны-лягушки. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. -130 с.
- Славова М. Т. Игра и игровое начало в беллетристике для детей//Проблемы детской литературы. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1987. -С. 50-57.
- Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня: пер. с нидерл. -Москва: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. -464 с.
- Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе: учеб. пособие для вузов. -Москва: Высш. шк., 2005. -495 с.