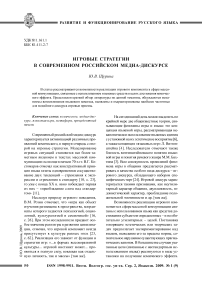Игровые стратегии в современном российском медиа-дискурсе
Автор: Щурина Юлия Васильевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 1 (9), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются возможности реализации игрового компонента в сфере массовой коммуникации, связанные с использованием языковых средств в целях достижения комического эффекта. Представлен краткий обзор литературы по данной тематике, обсуждаются механизмы возникновения языкового комизма, выявлены и охарактеризованы наиболее частотные для медийного дискурса игровые приемы.
Комическое, медиа-дискурс, языковая игра, метафора, прецедентный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14969377
IDR: 14969377 | УДК: 811.161.1
Текст обзорной статьи Игровые стратегии в современном российском медиа-дискурсе
Современный российский медиа-дискурс характеризуется активизацией различных проявлений комического, в первую очередь с опорой на игровые стратегии. Моделирование игровых ситуаций становится все более заметным явлением в текстах массовой коммуникации: если еще в начале 70-х гг. В.Г. Костомаров отмечал как конструктивный принцип языка газеты одновременное сосуществование двух тенденций – стремления к экспрессии и стремления к стандарту [10, с. 23], то уже с конца ХХ в. явно побеждает первая из них – «преобладание слога над стандартом» [11].
Исследуя природу игрового поведения, В.М. Розин отмечает, что «игра как объект изучения размещена в пространстве, координаты которого задаются психологией, социологией, культурологией и семиотикой» [16, с. 26]. При этом исследователи придают особое значение роли игры в развитии цивилизации, отмечая, что игровой компонент всегда присутствует в культуре разных эпох [23, с. 62]. Реализация его зависит от функции и стратегии игр: «...в формах высокоразвитой культуры... игровой инстинкт может... проявиться в полную силу, вовлекая как отдельную личность, так и массы» [там же].
На сегодняшний день можно выделить по крайней мере две общеизвестные теории, связывающие феномены игры и языка: это концепция языковой игры, рассматривающая неканоническое использование языковых единиц с установкой на их эстетическое восприятие [6], а также концепция «языковых игр» Л. Витгенштейна [4]. Исследователи отмечают также близость витгенштейновского понятия языковой игры и понятия речевого жанра М.М. Бахтина [3]. Всю совокупность проявлений феномена игры в общении предлагается рассматривать в качестве особого вида дискурса – игрового дискурса, обладающего набором специфических черт [24]. Игровой дискурс характеризуется такими признаками, как неутилитарный характер общения, двуплановость, гедонистический характер, преобладание положительной эмотивности и др. [там же].
Возможности реализации игрового компонента в сфере массовой коммуникации связаны с использованием языка как средства достижения субъектом определенных – и не обязательно утилитарных – целей. Постановка говорящим эстетических или творческих задач предполагает экспериментирование над языком, выведение его за пределы нормы, сознательное нарушение существующих прагматических канонов. В большинстве случаев указанные цели (связанные с нестандартным использованием языка) реализуются в виде установки на получение комического эффекта.
Медиа-текст, использующий в ряду других аргументов игровые ситуации, вовлекает факты языка в сферу игры. Журналисты – как правило, носители элитарного типа речевой культуры [5] – используют нестандартные языковые средства в поисках новых, необычных номинаций для лиц и фактов, нарушая лексические, словообразовательные или грамматические стандарты. При этом особое значение приобретает выстраивание ассоциативных цепочек, разрыв линейных связей и т. п., что способствует сохранению интереса к повествованию у адресата. Процесс восприятия подобного текста также организуется нестандартно: предполагается наличие у адресата некоторых специальных способностей, позволяющих понимать правила игры с языковым знаком – звуком, морфемой, лексемой, сопоставлять различные значения одной лексической единицы в определенном контексте, корректировать варианты связей между словами. Построенный таким образом журналистский текст предполагает воссоздание читателем альтернативной картины мира [18, с. 5].
Языковая игра занимает ведущее положение в современном журналистском дискурсе. Моделирование игровых ситуаций, переход от нейтрального изложения к окрашенному колоритом языковой игры, все более и более заметные в текстах современных СМИ, становятся тенденцией их развития. Этот процесс, направленный на нарушение семантических и прагматических канонов, имеет своей целью вникнуть в природу самого канона, а через него и в природу вещей [2].
Игровые приемы способствуют реализации особых экспрессивных возможностей, заложенных в языке, выполняя ряд коммуникативных функций, важнейшая из которых – привлечение внимания адресата [19, с. 47].
При рассмотрении сущности языковой игры как лингвистического явления исследователи расходятся в выделении прежде всего границ (пространства) игрового поля. При широком (витгенштейновском) понимании языковая игра есть само употребление языка и его законов, правил его функционирования в разных сферах коммуникации. Широкое (как употребление языка вообще) и более узкое (как неканоническое употребление языка) понимание языковой игры представляют два направления прагматического подхода к исследованию этого феномена [15].
Одной из причин распространения языковой игры в речевой практике конца ХХ – начала XXI в. является «коммуникативное равенство адресанта и адресата», при котором адресант имеет возможность рассчитывать на понимание его речевого творчества в виде языковой игры: «...презумпция коммуникативного равенства адресанта, в частности, установка на высокую осведомленность (и, если можно так выразиться, «понятливость») адресата, получила проявление... в широком распространении языковой игры...» [21, с. 4].
Языковая игра рассчитана на общность апперцепционной базы автора и адресата, общность фоновых знаний.
Современные медиа-тексты характеризуются широким использованием различных приемов языковой игры, причем наиболее активным процессом следует признать создание разного рода окказионализмов, которые М. Эпштейн выделяет в отдельный жанр – од-нословие. «Однословие, – пишет он, – искусство одного слова, заключающего в себе новую идею или картину мира» [25, с. 204].
Достаточно распространено в журналистских текстах создание нового слова по продуктивным моделям, характерным для разговорной речи: существительное (глагол, прилагательное) + суффикс. Иногда отступление от нормы заключается в том, что базовой основой становится не качественное прилагательное, а относительное: ...узок круг этих избранных, тихо любующихся своей культурностью, богемностью и терпсихорно-стью (Комсомольская правда. 1999. № 120).
Не менее распространен и прием получения окказионализма с помощью присоединения к слову нетипичных, неожиданных морфем (чаще всего приставок): теленачальники, телекидалы и телебароны ; дедебилизация эфира (Литературная газета. 2005. № 52).
Весьма продуктивным в практике современных СМИ способом создания новых слов является метод словосложения: Путин устроил звездам орденопад (Комсомольская правда. 2005. 23 дек.); Банкотрясение – заголовок (Аргументы и факты. 2005. № 51); социумотрясение (Литературная газета. 2005. № 52).
В ономастике языковая игра является достаточно сильным средством достижения экспрессии и одновременно может служить оценочным механизмом: Женю плющит (МК в Питере. 2005. 22 июня); Жубера расплющили (Советский спорт. 2005. 29 янв.) – формы и производные глагола «плющить» связаны с фамилией олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Или: Женьское счастье (Московский комсомолец. 2005. 20 июня) – заголовок статьи о свадьбе Плющенко, в котором обыгрывается имя чемпиона – Женя.
Деппоманы и любители «кино не для всех» с нетерпением ждали отечественной премьеры одного из самых загадочных проектов Джонни Деппа (Кинокадр. 2006. 24 янв.); Деппмода набирает обороты (Кинокадр. 2006. 13 июля); У меня ДЕППрессия уже почти полгода. ДЕППрессией болеть приятно (Кинокадр. 2006. 22 июня) – производные деппоманы, деппмода и деппресия образованы от фамилии популярного американского актера Джонни Деппа. Джонни Депп: Райское наслаждение (Семь дней. 2004. Янв.) – заголовок статьи построен на игре с использованием прецедентного рекламного текста (реклама шоколадного батончика «Баунти»), фрагмент которого отсылает читателя к фамилии гражданской жены Деппа – Ванессы Паради (ср.: англ. paradise – рай).
Для современных медиа-текстов характерна игра с нарицательными именами посредством графического выделения: ПоКЛОН с того света (заголовок). Богатая американская семья собирается с помощью клонирования вернуть себе умершую дочь (Комсомольская правда. 2000. 20 окт.). Или: Пляж НУДных людей (заголовок статьи о нудистском пляже; Аргументы и факты. 2000. № 32). Графическое выделение может сопровождать другие виды языковой игры, например, варьирование поговорок, пословиц, устойчивых выражений: Седина в бороду, соБЕС в ребро (заголовок; Комсомольская правда. 2000. 13 окт.); На банки напал МОРаторий (заголовок; Известия. 1999. 19 нояб.).
Еще один распространенный игровой прием – игры с сочетаемостью слов. Суть этого приема состоит в нарушении норм лексической сочетаемости с целью создания дополни- тельных эффектов. Преодоление фиксированных смысловых, грамматических, синтаксических, стилистических связей приводит к возникновению в медиа-тексте новых отношений между единицами языка и предметами, лицами, ситуациями.
Опорным элементом игры с сочетаемостью слов в публицистике становятся, как правило, ключевые слова эпохи, «обозначающие явления и понятия, находящиеся в фокусе социального внимания» [12]. Стучат по башке колотушкой реформ ; Режиссер вычислил из пьесы корень квадратный (Литературная газета. 2005. № 52); Ах, эти дикорастущие соседи! (Комсомольская правда. 2005. 23 дек.) – традиционная сочетаемость слов расширяется.
Игра с сочетаемостью достаточно часто используется как вариант заголовка, обычно – в информационных материалах, когда экспрессией маркируется лишь сильная текстовая позиция начала изложения.
Значительное место среди приемов языковой игры, используемых в текстах СМИ, занимает прием рифмовки. Рифмованные строки могут обрамлять текст, занимать в нем сильные позиции: заголовка, подзаголовка, подписей к фотографиям и т. п. Например, статья под названием «Авербух против Плющенко», посвященная противостоянию фигуристов-организаторов ледовых шоу Евгения Плющенко и Ильи Авербуха, включает следующие подзаголовки: (1) Илья: «И здесь не может быть двух мнений: один остался ты, Евгений!» и (2) Женя: «А у меня солистов двух увел коварный Авербух...» (Комсомольская правда. 2007. 11 апр.). Заметим, что, помимо функции привлечения внимания, прием рифмовки может выполнять функцию оценочную, служить средством выражения авторского отношения к описываемым им событиям и персонажам. В последнем примере посредством использования рифмованных строк достигается изменение общей тональности текста, придание ему ироничной окрашенности и даже определенной тенденциозности (автор статьи явно на стороне Авербуха, но выражает это достаточно осторожно, в частности, через использование игровых приемов; в основной, серьезной, части текста подобные намеки практически отсутствуют).
Различные игровые приемы могут комбинироваться, что наблюдается достаточно часто: Вся команда сообща не заменит нам Плюща (заголовок; Комсомольская правда. 2008. 10 янв.). Статья посвящена предварительным итогам чемпионата Европы по фигурному катанию, на котором команда России выступала не вполне удачно. Соединение в заголовке приема рифмовки и приема обыгрывания фамилии фигуриста Плющенко позволяет задать тексту необходимую тональность, передать авторское отношение к описываемым событиям (ср. подзаголовок данного материала На чемпионате Европы Россия может остаться без медалей).
Отдельного изучения заслуживает игровой потенциал метафор. Как уже отмечалось выше, возможность идентификации комических высказываний определяется наличием у автора и адресата особых способностей – чувства юмора. С точки зрения когнитивной психологии чувство юмора определяется как способность человека понимать комическое, в том числе вербальный юмор, который основан на неоднозначности языковой единицы. Реципиент должен удержать в памяти одно значение слова/словосочетания, в то время как в процессе восприятия комического текста внимание переносится на другое значение [9]. По словам Гектора Монро, все теории комического можно подвести под концепцию несоответствия [22]. Психологический смысл восприятия комического заключается в осознании несовпадения, несоответствия воспринимаемого обычному, ожидаемому, другими словами, это восприятие имеет оценочный характер, предполагая своеобразное «примеривание» объекта, воспринимаемого в качестве смешного, к эталонам знакомого – правильного, хорошего, красивого. Причем мыслительная операция «сличения» является основой как восприятия, так и продуцирования комических высказываний [17].
Метафора по самой своей природе тоже представляет собой несоответствие и как нельзя лучше отвечает теории комического. Игровая функция метафор (то есть метафора как один из приемов создания комического) наиболее полно исследована в художественных текстах [22]. В 80-е гг. XX в. функционирование игровых метафор стало изучаться и в раз- говорной речи: Голая карамель (без обертки); У меня там двое микробов опубликовано (о тезисах). Зарождение игровой функции метафор начинается в детской речи: А кот запчасти от рыбы ест... (Артем, 5 лет). Папа, причешись, а то у тебя затылок разбушевался (Женя, 4 года) (примеры цит. по: [22]). Эти примеры отражают игровые ресурсы метафорического использования слов.
Метафоры, которые используются как речевое средство комического, по сравнению с обычной индивидуально-авторской метафорой, обладают особой экспрессией. Комическая метафора не просто результат интерпретации действительности личностью, такая метафора является выражением эмоционально-ценностного отношения говорящего к переименованному объекту [17]. Комическая экспрессия – частный случай реализации экспрессивной функции языка, которая понимается как «кумулятивный эффект оценочной, мотивационной и эмотивной деятельности языкового сознания субъектов речи, обусловленной его интенцией выразить некоторое чувство-отношение по поводу определенного положения дел в мире или свойства лица» [14, с. 43].
Основой создания комической метафоры является непроизвольная мыслительная ассоциация, своего рода «психический разряд, как молния, пробегающая от одного фрагмента к представлению другого» [20, с. 105].
Экспрессивные возможности метафор достаточно интенсивно используются в современном российском медиа-дискурсе. Возникновение и активное распространение метафорических номинаций отражает преобладающую в последние десятилетия «игровую дискурсную формацию», доминирующей интонацией которой является ирония [13]. Эта формация базируется на градуальной ценностной оппозиции я – мир , где шкалируемым параметром оказывается способность к рациональным действиям. Метафора «мир – театр», лежащая в основе этой формации, ставит говорящего в позицию наблюдателя, зрителя спектакля, устраиваемого миром, причем зритель превосходит окружение по признаку рациональности. Чужое слово вводится в текст, работающий на аллюзиях, интертекстуальных отсылках, без опознавательных знаков [13].
В журналистских текстах последних лет иронические метафорические номинации присутствуют достаточно широко: А Любовь Слиска наехала лишь для приличия: «Когда правительство станет командой?» (Комсомольская правда. 2005. 14 апр.); Пресса под прессом (Новости НТВ. 2001); Плющенко за последние год с лишним успел не только набрать политический вес и получить гонорары на Первом канале, но и проявить себя большим любителем (хотя пока еще не мастером) вести торги. Ведутся они с Федерацией фигурного катания на коньках России, властными структурами и спонсорами (Невский спорт. 2007. 22 мая); Обвитый Плющенко (заголовок; Новая газета. 2007. 12 июля); Вложи в дурака знания , и тайна вклада гарантирована (В. Шендерович).
Использование метафор может лежать в основе конструирования различных комических речевых жанров, функционирующих в пространстве современных СМИ (см. об этом: [7]). В первую очередь отметим первичные речевые жанры малого объема:
-
- шутки-реплики: (1) Мы наслаждаемся женщиной из Ямало-Ненецкого автономного округа; (2) Прав был Гегель. Прорвало! ; (3) Ой, и у меня отлегло , и у вас отлегло – лишь бы трибуны устояли (Д. Губерниев, спортивные репортажи, февраль 2002);
-
- комические афоризмы: За мужчинами не нужно бегать, перед ними надо расстилаться (Литературная газета. 2002. № 16);
-
- жанр шутливого комментария к цитате: (1) А. Починок: «Наша задача – смотреть, как растут налогоплательщики». Чтобы налогоплательщик рос , неплохо бы его сначала посадить ... (Аргументы и факты. 1999. № 47); (2) Е. Строев: «Палата переваривала эти законы более осмысленно и давала пищу исполнительной власти». Даже исполнительная власть вряд ли может принять то, что переваривала палата, за пищу. Особенно если палата при этом активно мыслила (Аргументы и факты. 2000. № 31).
В основе механизма порождения комического в указанных примерах чаще всего лежит двойная актуализация соответствующих языковых единиц. Игра слов становится возможной благодаря соотношению актуализирующих компонентов контекста с содержанием высказывания на основе буквализации, при этом буквальное значение слов, которое подвергается переосмыслению, не исчезает, а играет большую роль в интерпретации метафоры [1].
Отметим, что продуцирование комической метафоры и ее восприятие обусловлены особенностями личности коммуникантов, в том числе нацеленностью на критическое осмысление действительности и представлением о положительной и отрицательной значимости объектов окружающего мира, поэтому для понимания особенностей образных речевых средств комического необходимым является учет прагматических факторов.
Особой разновидностью языковой игры можно назвать использование разного рода прецедентных текстов, к которым можно отнести регулярно воспроизводимые в актах коммуникации феномены, хорошо известные всем представителям культурно-языкового коллектива [12, с. 52].
Прецедентность является одной из характерных черт построения современных медиа-текстов. Особый интерес представляет рассмотрение прецедентных элементов (ПЭ), включение которых в авторский журналистский текст преследует эстетические цели, в том числе и установку на достижение комического эффекта.
Варианты воплощения творческого подхода к языку реализуются журналистами в различных формах: это могут быть различные репрезентации речевых жанров, относимых к области комического (анекдотов, шутливых афоризмов, комических заметок, комических объявлений и т. д.), или придание комической тональности жанрам, не включаемым в состав комических.
Введение ПЭ в структуру комического высказывания позволяет, помимо эстетического эффекта, реализовать и другие функции: создание подтекста, актуализацию «фоновых» знаний адресата, повышение экспрессивности, усиление оценочности, проявление языковой личности коммуниканта и пр. Дополнительные возможности используются с разной степенью частотности, однако можно выделить жанры, для которых включение прецедентных текстов в состав высказывания является весьма вероятным или даже обязательным. К их числу можно отнести комические речевые жанры малого объема – веле-ризмы, комические сентенции, короткие анекдоты и др.
Прецедентный текст, или интертекст, позволяет в сжатом виде передать информацию о тексте-источнике либо о целом куль-турном/историческом событии. Следовательно, прецедентные феномены обладают особым типом коннотации, которую можно назвать культурной коннотацией. Это дает возможность рассматривать явление прецеден-тности как одно из важнейших средств межкультурной коммуникации.
ПЭ, включенные в состав многих современных комических высказываний, отражают специфику культурной ситуации последних лет: по большей части это фрагменты рекламных текстов, цитаты из кино- и телефильмов, а также устойчивые выражения – афоризмы, пословицы и т. п.:
-
- Моя жизнь – сплошная скука. Но все меняется, когда приходят они... деньги от родителей (ПЭ представляет собой фрагмент рекламного текста);
-
- Капля никотина убивает лошадь , а кружка кофе – клавиатуру; Объявление: Отдадим котят в хорошие руки , а то у нас плохие; Говорит и показывает Москва ... все остальные работают (в качестве прецедентных высказываний выступают расхожие фразы, трюизмы и др. устойчивые выражения);
-
- В связях, порочащих его , был, но не замечен (обыгрывается цитата из известного телефильма);
-
- А Вас , Плющенко, я попрошу остаться... (заголовок; Физкультура и спорт. 2006. № 12) – обыгрывается цитата из популярного советского телефильма – в источнике знаменитая фраза персонажа Л. Броневого звучит как «А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться...».
Источником комического эффекта в приведенных примерах служит несоответствие между привычным, известным носителю языка содержанием прецедентного высказывания и общим смыслом фразы, который возникает в контексте.
При этом высокочастотными являются разного рода трансформации, которым может подвергаться прецедентный текст: лексические и грамматические искажения состава, перемещение лексических элементов, контаминация и др.
Возможность эффективного использования прецедентных текстов связана с определением культурных коннотаций, которыми они обладают. Для адекватной интерпретации комических речевых жанров, имеющих в составе ПЭ, необходимо совпадение составляющих культурного багажа коммуникантов, общность соответствующих пресуппозиций. Несовпадение элементов апперцепционной базы автора и адресата (незнание адресатом соответствующих рекламных текстов, паремий, фразеологизмов; отсутствие необходимого, хотя бы предварительного, знакомства с литературными произведениями, кинофильмами и т. п.) может привести к коммуникативному сбою, возникновению незапланированного перлоку-тивного эффекта. Для комических жанров отсутствие ожидаемого комического эффекта равносильно коммуникативной неудаче.
Сочетание приемов языковой игры и возможностей ПЭ отмечается в примерах, отражающих включение новейших английских заимствований (типа пейджер, тюнер, рокер, байкер, брокер, имидж, маркет, шоппинг, шоу, шоумен, мерчендайзер ) в необычные для них контексты, например, в идеологически маркированные тексты советской эпохи: лозунги, призывы, клише и т. п. [8]. Помещение англицизма в подобный контекст трансформирует прецедентное высказывание, придавая ему пародийное звучание: «Пионер» – всем инвесторам пример (Сегодня. 1998. 13 июля). Или: Если тебе имиджмейкер имя, имя крепи делами своими (Аргументы и факты. 1997. № 13); Скинхэды как зеркало экономики (Московские новости. 1996. № 22); С коммунистическим импичментом ! (Московский комсомолец. 1999. 18 марта).
Весьма популярным является включение англицизмов в состав названий известных литературных произведений или цитат из них: Блеск и нищета российского шоу (Литературная Россия. 1999. № 9) – ср.: Блеск и ни- щета куртизанок О. де Бальзака; Шоумен в России больше, чем шоумен! (Огонек. 1996. № 8) – ср.: Поэт в России больше, чем поэт (Е. Евтушенко).
Подобное использование новых англицизмов в трансформированных прецедентных текстах позволяет автору выразить оценку тех или иных новых явлений в жизни России (чаще негативную, что достигается при помощи насмешки или иронии).
ПЭ могут обрамлять текст, занимать в нем сильные позиции: заголовка, подзаголовка, подписей к фотографиям и т. п. Чаще всего ПЭ используются в заголовках, в том числе и в информационных материалах, когда экспрессией маркируется лишь сильная текстовая позиция начала изложения. Так, статья М. Таланова, посвященная возможности возвращения к любительским соревнованиям знаменитых российских фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина (Город. 2007. 22 мая), содержит ПЭ в заголовке: Назад, в будущее – и во всех внутритекстовых подзаголовках: И Алеша тоже; Властелин на льду; «Да» и «нет» не говорить; О бедном Лутае замолвите слово. При этом в качестве источников используются как названия художественных фильмов, так и фрагменты рекламных текстов, а также ключевые фразы известных детских игр. Объем и характер прецедентного материала позволяют достичь иронической окраски текста, хотя способы выражения иронии в современных медиа-текстах, по мнению исследователей, становятся проще, грубее – отсутствует игра с культурными смыслами прошлого, присутствует явно сниженный речевой регистр [13].
Итак, введение ПЭ позволяет реализовать целый ряд функций: привлечения внимания адресата, оценочности, выражения авторского отношения к описываемым им событиям и персонажам. Установка на комический эффект способствует усилению экспрессии и реализации прагматических целей автора. Использование ПЭ с опорой на достижение комического эффекта может рассматриваться как один способов активизации творческого начала в личности как автора, так и читателя.
Таким образом, современный медиатекст, применяя возможности нестандартно- го, творческого использования языка, преследующего не только утилитарные, но и эстетические цели (установка на комический эффект), способствует приобщению читателя к восприятию сообщения, пронизанного игровыми знаками. При этом вместо стандартной номинации, соответствующей представлению в тексте факта или лица, появляется ее творчески обработанный вариант, который смещает акцент с собственно информации на ее комментарий, оценку, эмоциональное воспроизведение [18, с. 173].
Нестандартное использование языковых единиц следует признать наиболее эффективным в медиа-текстах, связанных со сферой искусства, культуры, духовной жизни, так как именно в них допустима передача субъективного видения реального при ослаблении документальной основы материала. Таким образом, представляется возможным выделить сферу наиболее рационального применения приемов комического: это художественно-публицистические жанры, заголовки информационных жанров.
Игровые операции с языковыми знаками образуют в тексте медиа-реальность, и построенный таким образом журналистский текст формирует некую альтернативную картину мира, способствуя активизации творческого начала в личности как автора, так и читателя.
Список литературы Игровые стратегии в современном российском медиа-дискурсе
- Арсентьева, Е. Ф. Роль контекстуальных преобразований фразеологизмов в создании юмористического эффекта в литературном анекдоте/Е. Ф. Арсентьева//Ученые записки Казанского государственного университета. Сер. «Гуманитарные науки». -Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2006.-Т. 148, кн. 3. -С. 36-41.
- Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека/Н. Д. Арутюнова. -2-е изд., испр. -М.: Языки русской культуры, 1999. -896 с.
- Вежбицка, А. Речевые жанры/А. Вежбицка//Жанры речи. -Саратов: Изд-во «Колледж», 1997. -С. 99-111.
- Витгенштейн, Л. Логико-философский трактат/Л. Витгенштейн. -М.: Изд-во иностр. лит., 1958.
- Гольдин, В. Е. Внутринациональные речевые культуры и их взаимодействие/В. Е. Гольдин, О. Б. Сиротинина//Вопросы стилистики. -Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. -С. 9-19.
- Гридина, Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество/Т. А. Гридина. -Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 1996.
- Дамм, Т. И. Малоформатные комические речевые жанры современной российской газеты (лингвостилистический аспект): автореф. дис.... канд. филол. наук/Т. И. Дамм. -Кемерово, 2003. -31 с.
- Изюмская, С. С. Неологизмы английского происхождения в русской прессе 90-х годов: структурно-семантический и коммуникативно-функциональный аспекты: автореф. дис.... канд. филол. наук/С. С. Изюмская. -Ростов н/Д, 2000. -16 с.
- Коншина, С. Г. Комический текст в аспекте его структурирования и понимания: автореф. дис.... канд. филол. наук/С. Г. Коншина. -М., 2006. -24 с.
- Костомаров, В. Г. Русский язык на газетной полосе: Некоторые особенности языка современной газетной публицистики/В. Г. Костомаров. -М.: Изд-во МГУ, 1971. -266 с.
- Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа/В. Г. Костомаров. -3-е изд., испр. и доп. -СПб., 1999. -320 с.
- Красных, В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация)/В. В. Красных. -М.: Диалог-МГУ, 1998. -352 с.
- Лассан, Э. Р. Изображение речи власти как средство ее десакрализации/Э. Р. Лассан. -Режим доступа: http://www.ling.x-artstudio.de/st3.html>.
- Латина, О. В. Экспрессивная функция языка/О. В. Латина//Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности. -М.: Слово, 1991. -С. 42-50.
- Лисоченко, Л. В. Языковая игра на газетной полосе (в свете металингвистики и теории коммуникации)/Л. В. Лисоченко, О. В. Лисоченко//Эстетика и поэтика языкового творчества: межвуз. сб. науч. тр. к 95-летию со дня рождения М. А. Шолохова. -Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2000. -С. 128-142.
- Розин, В. М. Природа и генезис игры (опыт методологического изучения)/В. М. Розин//Вопросы философии. -1999. -№ 6. -С. 26-37.
- Ротанова, Н. М. Комическая (ироническая) метафора. Опыт анализа (когнитивный и прагматический аспекты)/Н. М. Ротанова. -Режим доступа: http://unoc.urorao.ru/konf/2005/obrazov/32.doc>.
- Сметанина, С. И. Медиа-текст в системе культуры. Динамические процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века/С. И. Сметанина. -СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2002. -383 с.
- Солганик, Г. Я. О закономерностях развития языка газеты в XX в./Г. Я. Солганик//Вестник МГУ. Сер. 10, Журналистика. -2002. -№ 2. -С. 39-53.
- Телия, В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты/В. Н. Телия. -М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. -288 с.
- Федосюк, М. Ю. В каком направлении развивались стили русской речи ХХ века/М. Ю. Федосюк//Филология и журналистика в контексте культуры (Лиманчик-98): материалы Всерос. науч. конф. Вып. 4. -Ростов н/Д: РГУ, 1998. -С. 4.
- Харченко, В. К. Функции метафоры/В. К. Харченко. -М.: Изд-во ЛКИ, 2007. -96 с.
- Хейзинга, Й. Homo Ludens: Статьи по истории культуры/Й. Хейзинга; пер., сост. и вступ. ст. Д. В. Сильвестрова. -М.: Прогресс, 1997. -416 с.
- Шейгал, Е. И. Игровой дискурс: игра как коммуникативное событие/Е. И. Шейгал, Ю. М. Иванова//Известия Российской академии наук. Сер. литературы и языка. -2008. -Т. 67. -№ 1. -С. 3-20.
- Эпштейн, М. Слово как произведение: о жанре однословия/М. Эпштейн//Новый мир. -2000. -№ 9. -С. 204-215.