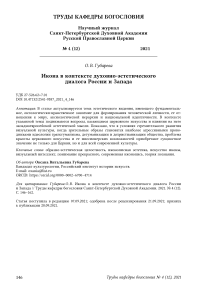Икона в контексте духовно-эстетического диалога России и Запада
Автор: Губарева Оксана Витальевна
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 4 (12), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье актуализируется тема эстетического видения, имеющего фундаментальное, онтологически-нравственное значение для формирования человеческой личности, ее отношения к миру, аксиологической иерархии и национальной идентичности. В контексте указанной темы поднимаются вопросы, касающиеся церковного искусства и влияния на него западноевропейской эстетической мысли. Показано, что в условиях стремительного развития визуальной культуры, когда зрительные образы становятся наиболее агрессивными проводниками идеологии трансгуманизма, дегуманизации и дехристианизации общества, проблема красоты церковного искусства и ее миссионерских возможностей приобретают сущностное значение не только для Церкви, но и для всей современной культуры.
Образно-эстетическая целостность, иконописная эстетика, искусство иконы, визуальный интеллект, понимание прекрасного, современная иконопись, теория познания
Короткий адрес: https://sciup.org/140294903
IDR: 140294903 | УДК: 27-526.62+7.01 | DOI: 10.47132/2541-9587_2021_4_146
Текст научной статьи Икона в контексте духовно-эстетического диалога России и Запада
The article was submitted 07.09.2021; approved after reviewing 21.09.2021; accepted for publication 28.09.2021.
Последние тридцать лет, начиная с того момента, когда вновь стало интенсивно развиваться церковное искусство, вопросы, связанные с иконописной эстетикой, ее традициями и богословско-эстетическими основаниями, постоянно находятся в дискуссионном поле. В свете происходящих в мире культурных деформаций, эта дискуссия представляется актуальной не только для профессионального сообщества. Она имеет значительный образовательный, воспитательный и духовный потенциал, который может влиять на общество в целом, оказывать формирующее воздействие на отношение к Церкви и истории России. В условиях кризиса эстетического мировосприятия, развития феномена боязни собственного наследия, родного языка, речи, падения профессионализма во всех сферах художественного творчества, умаления роли идеала и культуры подлинного, в обществе сформировался запрос на ценностный идеал и образец, воплощенный в традиционной эстетической форме, который мог бы противостоять культуре эпатажа. И этот запрос впрямую обращен к Церкви, поскольку антиэстетизм современного искусства, по сути, превратился в визуализацию греха. Мода на безобразное предлагает человеку упрощенную и деформированную модель мира, в которой нет места не только для сферы духовного, но даже для души.
В начале XXI в. известный современный философ, занимающийся вопросами эстетики, В. В. Бычков писал: «Искусства как одной из актуальных форм культуры, имеющей метафизический характер, уже практически нет, … его можно увидеть только в музее»1. В настоящий момент ситуация усугубилась. Музеи активно включились в продвижение идеологии антиискусства, модели нового, перевернутого эстетического опыта2. В этих условиях утверждение феномена иконы как глубинного современного и вневременного явления важно не только с литургических позиций, а как выявление фундаментальных национальных традиций в искусстве, формирование эстетических ориентиров в мире релятивизма, размытых границ между добром и злом.
Умение видеть и понимать прекрасное является одним из высших проявлений человеческой личности, дарованной Творцом. Именно эстетическое чувство больше всего связывает человека с традиционной культурой, дает возможность делать правильный выбор между прекрасным и безобразным, а значит — между добром и злом; открывает возможности к постижению более высокой реальности. Красота позволяет переживать духовное состояние полноты и радости жизни, развивает креативно-образное мышление3.
Осмысленное в современных культурологических категориях искусство иконописи может снова, как и на рубеже веков, оказать животворное влияние на отечественную культуру.
В этой связи в высшей степени насущными и требующими ответа становятся основные вопросы, постоянно поднимающиеся в дискуссии о церковном искусстве: что такое творчество в иконописи и искусство ли икона? Может ли технично исполненное ремесленное произведение иконописи воздействовать на глубинные основы человеческой психики? На какие исторические образцы должна опираться в своем развитии современная школа национальной иконописи и должна ли она вообще на них опираться? Поиски ответа на эти вопросы в богословской и литургической сферах не привели к нужным результатам4, поскольку никак не влияют на развивающуюся практику. Чтобы найти ответы на эти вопросы, необходимо оперировать эстетическими категориями. И здесь наибольшее значение имеет искусствоведческий подход: образно-пластическая интерпретация памятников прошлого. Без понимания феномена духовно-эстетического единства формы и содержания древних икон осмысление того, как и насколько в них взаимосвязаны художественное и богословское, современное искусство иконописи вряд ли сможет уйти дальше внешней стилизации, серийной стандартизации иконописных приемов.
Интерес к изучению иконописи и попытки интерпретации иконописных памятников, начиная с середины XIX столетия, не прекращались весь XX в. и продолжаются до сих пор. На протяжении длительного периода было использовано множество концепций: это и историко-типологический подход, иконологический и иконографический анализы, герменевтика, феноменология, структурный анализ, патристика, семиотика, теория гештальта, постмодернистская версия информационного подхода. Но все данные методики не затрагивают самого главного практического для художников аспекта — эстетического. Он исследовался только в рамках образно-пластического искусствоведческого метода, нацеленного на изучение иконописи не как парадигмы, а на выявление среди рядов сохранившихся памятников художественных шедевров5. Отечественными искусствоведами был обоснован факт того, что ритм, композиция и перспектива, светоцветовые художественные решения в иконописи глубоко связаны со смысловым наполнением памятников. Художественно-теоретические аспекты позволили сформулировать фундаментальные художественные принципы, лежащие в основании богословско-эстетической целостности икон: композиционная ритмичность, взаимодействие частей и целого, послойность изображения; метафоричность и многозначность контекста, христоцентричность; принцип созерцания, «замедленного чтения», когда зритель становится сотворцом смыслов, а не только наблюдателем живописной поверхности6. Эти принципы складывались столетиями для того, чтобы в художественно-эстетической форме являть Бога. Искусство иконы сформировалось как визуальное богословие, богословие Красоты, проявленное в лучших памятниках древнерусского и византийского искусства.
Эстетику иконописи нельзя рассматривать как относящуюся к определенному историческому периоду, жанру или разделу культуры. Оно является частью познания логосности и целостности бытия. История иконописи развивалась как история «созерцаний» Пресущественно Прекрасного, способ познания мира в ту древнюю эпоху, когда формировался стиль церковного искусства и его эстетические принципы. Бог как Великий Художник творил сущее; художник, наделенный даром творчества, раскрывал Его Образ в изображениях, а созерцание Красоты, включенное в экзистенциальный опыт Богообщения, оказывало глубинное воздействие на личность, формировало мировоззренческие установки.
Почему же искусствоведческий метод, нацеленный на исследование и понимание самой сути иконописи как богословия Красоты, оказался не востребован современной церковной практикой? Ответ на этот вопрос нужно искать в извечной для русской культуры дихотомии «Запад — Восток».
Со второй половины XVI в. на русскую иконопись начинает оказывать влияние западная эстетика. С этого времени прошло несколько веков, и русская культура уже привычно существует в этом взаимодействии. Этот давний духовно-эстетический и визуально-мировоззренческий диалог России и Запада необыкновенно значим для понимания нынешнего развития иконописного искусства, глубоко связанного с трансформацией христианского мировоззрения в России, поскольку именно новый визуальный в московской живописи конца XIV — первой трети XV века. М., 2005; Ее же. «Успение» — храмовая икона Успенского собора Московского Кремля. К вопросу о развитии живописи Москвы во второй половине XV в. // Древнерусское и поствизантийское искусство. Вторая половина XV — начало XVI века. К 500-летию росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря: сб. статей. М., 2005. С. 40–64; Губарева О. В. Божья Матерь в Ее иконах. М., 2006; Ее же. Образно-стилистический метод анализа икон: научная актуальность // Вестник РХГА. 2014. № 1. С. 261–267; Ее же. Михаил Алпатов об искусстве иконы: особенности метода // Временник Зубовского института. 2019. Вып. 1 (24). С. 83–98; Серия «Русские иконы: образы и символы». (43 тома). СПб., 2013–2014. Главы «Рассказ об одном шедевре» и др.
6 Губарева О. В. Культурологический анализ интерпретационных моделей иконописи в контексте богословско-эстетической целостности: дисс. … канд. культурологии. СПб., 2013. 170 с.
образ стал тем ключом, который открыл в XVI в. дверь для западных идей в русскую культуру. Значимость этого очевидно недооценена, хотя некоторые западные исследователи полагают иконопись наиболее перспективным основанием для культурного диалога между западноевропейским и восточнохристианским миром7. Именно иконопись в ее древних формах наиболее глубоко и объемного выявляет ментальные границы двух миров.
В истории культуры Запад выступает как колыбель рационализма, аналитики и структурности, а Восток — созерцательности и холизма. В древности различие между православным мировоззрением и католическим (а также протестантским) во многом определялось противопоставлением структурной и холистической моделей Вселенной.
В христианской Церкви на западе Римской империи стала развиваться схоластика — структурированное системное знание о Боге. И сама Католическая Церковь довольно рано лишилась чувства органического единства в Святом Духе и начала структурироваться на принципах бюрократической системы. В эпоху Возрождения в понятийный круг «священного» был включен человек как воспринимающая сторона, и в духовной сфере окончательно победил рационализм, а также логический номинализм, не допускающий антиномичных толкований. Во всем, что касалось материального бытия, в западной части христианского мира возобладала магия — «наука» об элементах и их смешении. Была создана антропоцентрическая модель мира, в центре которой стоял человек-маг.
Восторжествовавший в Средние века номинализм привел западную Церковь к тому, что «весь символизм храма и богослужения (за исключением евхаристии) стал средством познания и наставления, но не средством причастия к Богу»8. Образ перестал быть символом в его нуминозном понимании, превратившись в знак, толкующий и скрывающий тайный, но не таинственный смысл. Он перестал соединять мир материи и чистого духа, потому что духовное начало растворяться в материальном. Антропоцентрическая модель изменила понимание символа, который превратился в символический знак, имеющий текстовое, а не сакральное измерение.
В этом духовном измерении сложилось определенное эстетическое видение, где художественный образ сформировался как структурная категория, имеющая лингвистическое измерение. Словом «icon» к ХХ в. стал называться любой значок, наделенный символико-знаковым смыслом. Для обозначения же того, что в православии подразумевается под словом «икона», в английском языке появился термин «iconography», что буквально переводится как регистрация, запись, получение изображения (образа) с помощью технических приспособлений. (Сейчас этот термин активно перенимается и русским языком.) Иконография стала рассматриваться как структурная схема, включающая в себя набор знаковых символов и изображений, соотнесенных со Священными и литургическими текстами, и являющаяся главным носителем смысла всего изображения.
И в широком, «icon», и узком, «iconography», значениях икона для западного человека закрепилась в культуре как текст, символический рассказ, «Библия для безграмотных», которую нужно изучать с помощью инструментов семиотики, т. е. разбивать на знаки, думать над их значением, размышлять над синтаксическими связями, аллегорическими и дидактическими подтекстами. И здесь необходимо отметить, что семиотический треугольник — знак, смысл и значение, — совершенно не связан с эстетическими категориями. Категории прекрасного, возвышенного, совершенного, понятия мастерства и умелости в западноевропейском религиозном искусстве очень рано оказались вне духовно-сущностного ядра, как нечто внешнее, необходимое для чувственного включения человека, проживания им эмоций, подводящих к главному — концептуальной идее. Неудивительно, что в XX в. западноевропейское искусство так легко освободилось от традиционных эстетических «облачений», уйдя в сферу чистой концептуальности, а сейчас и в сферу простого сенсорного взаимодействия. Интересно, что первым о «смерти искусства» в традиционном его понимании заявил крупнейший западный исследователь иконописи Ханс Бельтинг 9 .
Западную христианскую культуру, в центре которой стоит Логос в его античном понимании как высший аспект разумности, хорошо объясняет метафорический образ библиотеки (что использовалось не раз в западной культуре10). Это образ величественной, огромной библиотеки, где все человеческие достижения распределены по полкам, в которой для иконы как текста есть свое место. И, несмотря на всю догматическую разность католиков и протестантов, библиотека у них общая.
Нельзя сказать, что у православных народов когда-либо отсутствовало «логосное мышление». Безусловно, оно является определяющим для ментальности любого христианского народа11. Но в православной культуре Логос в первую очередь был осмыслен как Образ Божий, воплощенный Бог Слово, и для определения православного мироздания троп «библиотека» очевидно не подходит. В православии вера развивалась и произрастала не столько из схоластического знания, не даже столько из священных текстов, сколько из познания живой совершенной личности Богочеловека Иисуса Христа, Который мистически и есть Евангелие. Духовная жизнь Древней Церкви развивалась на созерцательном опыте, а не на чтении: основные аскетические сборники посвящены стяжанию духовного зрения.
Согласно православным представлениям, мир логических построений уже в Евангелии уступает силе очного свидетельствования. Вместо доводов о своем Богочеловечестве Иисус Христос говорит людям: «Видевший меня видел и Отца Моего» (Ин 14:9)12. Бог Слово воплотился, и созерцание Его стало высшим смыслом человеческой жизни. Понятия о таких категориях как истина, любовь, красота, благо, совесть, нравственность, справедливость, православная аскеза предлагала получать не столько из текстов, сколько в Откровении, через созерцание Бога и практику обретения личной живой веры. Говоря о необходимости воздержания, очищения сердца и ума, послушания, смирения, преподобные отцы учили как соединиться с Богом и обрести в Боге дар видения Божественного света. Ведь увидеть Бога — значит Его познать и в Нем получить совершенное целостное знание.
Православная икона родилась из этого аскетического опыта святых, из созерцания Пресущественно Прекрасного. Прп. Феодор Студит, обобщая и завершая в IX в. святоотеческое учение об иконе, подробно рассмотрел ее отличие от всякого другого искусства.
Икона, учил он, это произведение искусства, созданное по законам красоты не земной, а Божественной, по правилам, установленным Творцом и Художником всего сущего. Картина или портрет, изображающие тварный мир, сосредоточены на воспроизведении лишь следов той незримой совершенной Красоты Божественного мира, которые дошли до нас после грехопадения. Поэтому светское искусство — бледное отражение Красоты Божественной. В иконе же запечатлен Первообраз, Тот, по чьему образу и подобию сотворено все сущее. Только в иконах здесь, на земле, возможно увидеть первозданную красоту мира и созерцать образ Творца. Даже апостолы, общавшиеся с Христом, не могли видеть его Божественный образ в силу поврежденности своей человеческой природы. Образ Божий был недоступен им для созерцания и открылся только в момент Преображения. На святых же иконах мы всегда видим преображенный лик Христа.
У святых, достигших в чем-либо Христова совершенства, также сияет во плоти образ Божий, который может созерцаться духовными очами. Видимый образ Божий прп. Феодор Студит называл «печатью подобия». Ее оттиск, говорил он, везде одинаковый: в живом святом, в его изображении и в Божественной природе Творца, носителя самой печати. Отсюда — соединенность иконы с Первообразом и ее чудотворность. Задача создателя иконы — распознать эту печать и изобразить13.
Таким образом, в восточно- христианской культуре иконы понималась как образ Бога, в котором Духом Святым осуществляется Его мистическое присутствие и устанавливается диалог. Такому представлению соответствовал не структурный, а холистический образ, который невозможно раздробить на отдельные знаки, символические или аллегорические изображения, который весь есть печать Богоподобия. В православном понимании символа как соединения земного и небесного икона представляет собой символ во всей своей материальной образно-эстетической целостности. Символический образ Бога — часто употребляемое словосочетание при разговоре об иконах, наиболее адекватно раскрывает учение о ней.
Православная икона как образ мистического присутствия Бога познавалась в созерцании. Она почиталась как священный символ, в Духе Святом соединяющий земное и небесное. Совершенную богословско-эстетическую целостность икон невозможно представить как систему знаков, не нарушив ее органики, живого мистически-эстетического созвучия всех художественных элементов, не превратив в предмет магической интерпретации. Православные иконы создавались как целостные живые сущности, и их пластический язык развивался именно в этом направлении.
Из утверждения о проявленной в культуре «форме» Бога сложилась православная иконография, роль которой можно сравнить с остовом у живых существ, который обеспечивает их восприятие как целостности. Благодаря устойчивости иконографии изображение на иконе узнавалось и воспринималось не путем постепенного приращения смыслов, а как живой организм, в процессе наглядно-образного мышления. Из представления о Пресущественно Прекрасном стал развиваться пластический язык иконописи как выражение эстетического опыта святых. Из стремления и постоянного желания видеть Красоту сложилось особое место икон в пространстве православных стран. А из представления об иконах как месте явления Бога — их литургическое и поклонное значение. Искусство иконы соединило в себе образную (языковую), духовную (мистическую) и материальную (живописную) составляющие: материальное и духовное получило в ей Богочеловеческое единство и Божественную трихотомию. Изучение богословско-эстетической целостности икон требует особого методологического подхода, развития визуальных способностей интеллекта, понимания красоты в единстве символического и богословско-литургического содержания.
Образно-эстетическая целостность14 — та сущностная особенность, которая является определяющей для православной иконописи, не только визуально, но и теоретически отличает ее от католической традиции.
В 787 году на VII Вселенском Соборе, посвященном вопросам иконопочи-тания, зачитывался отрывок из «Апологии против иудеев» Леонтия, епископа Неаполя Кипрского: «Начертываю и пишу Христа и страдания Христовы в церквах и домах и на площадях, и на иконах, и на полотне, и в кладовых, и на одеждах, и на всяком месте, чтобы, ясно видя их, вспоминать, а не забывать...»15 Русь среди европейских народов приняла христианство одной из последних. Но нигде мы не находим столь буквального исполнения этого завета в визуальной культуре.
Иконописные изображения на Руси были повсюду, к чему бы мы ни обратились. Они были важнейшей составляющей религиозного бытия, интеллектуального, художественно-эстетического, бытового. Как литургический образ икона осуществляла связь дольнего мира с горним, обеспечивая постоянное присутствие Божественного в обыденной жизни человека. Как богословский образ она была хранительницей православного учения и предметом интеллектуального творчества. Как произведение искусства, — формировала эстетический вкус, была образцом возвышенной красоты, воспитывала душевную, эмоциональную и мыслительную сферы личности, выполняла функции нравственного ориентира, была мерилом творческого мастерства.
Выработанный веками иконописный изобразительный канон являлся хранителем не только православного учения, но и духовных ценностей национальной культуры, поскольку иного изобразительного искусства на Руси не существовало. Иконописная традиция была художественным способом сохранения и передачи этих ценностей из поколения в поколение16. Но при всей традиционности содержания и художественного языка икона в веках претерпевала изменения, так как ее создавали художники, обращавшиеся к эстетическим представлениям своих современников. Каноном определялось только то, что имело отношение к «печати богоподобия» и догматически правильной его презентации, во всем остальном художникам предоставлялась творческая свобода, которая понималась как дар Божий человеку, его богоподобие17.
Со второй половины XVI в. в духовной жизни Руси постепенно накапливаются изменения. И решающую роль здесь играло проникающее на Русь вместе с протестантскими и западнорусскими беженцами, торговцами, ремесленниками западноевропейское искусство, транслировавшее другой эстетический опыт, выработанный не целостным, а структурным видением мира, чувственно-рациональным отношением к Богу.
С XVIII в. в связи с реформами Петра I процессы рационалистической десакрализации и десимволизации русской культуры привели к тому, что икона оказалась вычеркнута из сферы высокого искусства. Православная иконописная традиция в среде образованного общества начинает восприниматься как узко-церковное, имеющее богослужебное назначение, лишенное эстетической ценности явление.
Эстетическое восприятие икон как искусства продолжало сохраняться только в деревенской народной среде. До 1917 г. огромная, бескрайняя Россия — крестьянская, мелкопоместная, купеческая, ремесленная — жила допетровским укладом. В русских деревнях сложилось свое видение и понимание прекрасного, автохтонное искусство, высшей и наиболее профессиональной частью которого были иконы. И в начале XX в. оно ненадолго вернулось на эстетический Олимп мирового искусства. Парадокс или культурно- историческая закономерность, но осознание красоты и художественной ценности русской иконы российской интеллектуальной элитой происходило благодаря Западу.
С середины XIX в. в западной культуре началась эпоха романтического увлечения Средневековьем. Это подтолкнуло русское просвещенное общество, уже всецело зависимое от западных ценностей, обратить внимание на отечественные «древности». Но поскольку в Европе «не было речи о первостепенной важности диалога с Богом, а смысл возрождения виделся в возврате к модели, которая властвовала в традиционном европейском об-ществе»18, то и российская европейски мыслящая элита включилась в этот процесс поверхностно, с археологических описательных позиций. К тому же поворот к «русской старине» оказался не таким идеально прекрасным, как в Европе. Русская деревенская икона была совсем не похожа на опоэтизированные готические картины и в великосветских кругах воспринималась как «дикая», «варварская», «раскольническое уродство», требующее облагораживания «высоким искусством».
Отношение к древнерусской иконописи хорошо охарактеризовал князь Г. Г. Гагарин — один из первых собирателей русских древностей. Он писал, что при всяком разговоре о древнерусском искусстве в приличном обществе «непременно явится улыбка пренебрежения и иронии. Если же кто-нибудь решится сказать, что эта живопись заслуживает внимательного изучения, то шуткам и насмешкам не будет конца»19. По словам А. В. Грищенко, первого автора, который развернуто стал писать об эстетике икон, иконопись отечественными медиевистами была отнесена к примитивному искусству, лишенному интеллектуального начала: «В воззрениях историков икона была не более, как результат “коснения древней Руси, по выражению Буслаева, до XVII столетия в литературном и вообще в умственном отношении ”. Икона для них — не что иное, как памятник любопытный, но варварский, варварской грубой и темной допетровской эпохи. Естественно, что указанные историки, которые были нередко филологами, все свое внимание направили в сторону изучения иконографии прежде всего»20.
Неприятие древней иконописной эстетики было присуще большинству государственных и синодальных чиновников вплоть до начала ХХ в., что часто приводило к печальным результатам. Например, Ф. И. Буслаев в письме к Н. П. Кондакову от 1874 г. писал: «Чтобы постигнуть искусство (хотя бы и византийское, или, лучше сказать — особенно византийское), надо приобрести, так сказать, чувство формы, для чего необходимы условия, которых не было и доселе нет в нашем отечестве… Мои эстетические увлечения … приняли б за галлюцинацию святоши или, что еще хуже, — за изощрение ханжи»21. Отметим, что в письме ученый говорит о византийских, а не о русских иконах. Русские иконы как эстетически привлекательные не обсуждались даже гипотетически.
В русских церквях в это время в качестве исконной красоты родной веры «возрождался» образ не Древней Руси, а Византии — более цивилизованной и уже «европеизированной» западными художниками. В церковное искусство пришел «византийский» академический эталон и родился русско-византийский стиль, соединивший западноевропейскую эстетику и византийскую иконографию. Древняя Русь с ее иконами, народными костюмами, украшениями, предметами быта и теремами была востребована лишь как роскошной антураж для салонных картин в духе Ганса Макарта.
Методологические принципы изучения древнерусского искусства отражали это представление. Иконы собирались как предметы религиозного быта и народных промыслов. Исследователей интересовала иконография, ее генеалогия, греческие и итальянские корни. В церквях ценилась только поклонная функция. Поэтому при благоукрашении и обновлении храмов древние фрески «улучшались», прописывались в соответствии с западноевропейскими представлениями о красоте, как о чем-то внешнем, «меняющимся как платье» в зависимости от вкуса и моды.
С болью осознаются сейчас те колоссальные потери, которые понесла древнерусская духовная культура: стены древних храмов зачищались и записывались, иконостасы выносились в рухлядные и заменялись новыми, в академическом стиле. Например, палехская22 мастерская Н. М. Сафонова, которого Грищенко окрестил «убийцей фресок», в конце XIX — начале XX вв. «поновила» клеевыми красками фрески в Софии Новгородской, во Владимирских Успенском и Димитриевском соборах, в Ипатьевском монастыре в Костроме, Мирожском монастыре Пскова. П. П. Муратов с горечью отмечал, что «археологи, руководившие “научными” реставрациями в 70– 90-х гг., не стеснялись исправлять порученные им памятники соответственно укоренившимся в них эстетическим воззрениям. Так поступал Прахов с драгоценнейшими киевскими фресками, так поступали Боткин и другие с росписями Благовещенского собора в Москве, Успенского во Владимире, Спасо- Мирожского монастыря во Пскове и т. д. Можно без малейшего преувеличения сказать, что все, что попало в руки археологов прошлого столетия в целях реставрации, было испорчено ими или искажено, в некоторых случаях, увы, навеки. Но опять-таки винить здесь приходится не отдельных лиц, а эпоху, которая не могла понять древнего искусства, а следовательно, не могла и любить его и беречь»23.
Стремительный процесс возвращения древнерусского искусства в лоно высокой культуры начался в частных коллекциях после раскрытий ряда икон от позднейших наслоений, копоти и почерневшей олифы. Силу визуального воздействия иконописного образа первыми оценили художники и коллекционеры.
В 1911 г. в Россию на выставку «Голубой Розы» приезжают французские художники, среди которых был Анри Матисс. И С. Остроухое, первый собиратель икон, поместивший их среди шедевров живописи, пригласил знаменитых французов познакомиться с его коллекцией. Художники были потрясены древнерусским искусством, его самобытной красотой, отличной от византийской. А. Грищенко, свидетель описываемых событий, писал: «Матисс, посетивший Россию в 1911 г., восхитился древнерусским искусством. Он ошалел от икон, по целым дням не мог оторваться от них, он не спал ночей от неожиданного открытия. Матисс говорил восторженные речи о значении русской иконы и ставил ее в уровень с лучшими достижениями итальянских примитивов. Приехав в Париж, он как колорист, ненавидит свои картины, он режет их — так велико было впечатление и воздействие от наших древних икон»24.
Благодаря авторитетным французским мастерам, которых увлекали идеи живописной целостности, у многих представителей русской интеллигенции словно бы упали шоры. Об эстетической значимости иконописи заговорили наиболее блистательные искусствоведы и философы: «умозрением в красках» назвал иконы князь Е. Трубецкой, «колористической речью» А. Грищенко, «мышлением красками» М. Алпатов. Сщмч. Павел Флоренский, Н. Пунин, М. Алпатов и многие другие крупные исследователи русской иконописи ХХ в. начали смотреть на нее не как на произведение «коллективного разума», а как на творческий акт художественной личности, как «визуальное мышление», «замедленное чтение», интеллектуальное созерцание красоты, возводящей к познанию красоты духовного мира.
С развитием когнитивных методов психологии и изучения законов восприятия искусства созерцание древнерусской иконописи к 1970-м гг. стало рассматриваться как сложный экзистенциальный опыт Богообще-ния — «предстояния Богу», оказывающий глубинное воздействие на личность, формирующее мировоззренческие установки. Об этом много говорил в лекциях С. С. Аверинцев — советский философ, филолог, искусствовед, поэт, глубоко верующий человек. В 1990 г. в фильме «Свидетельство красотой» он предлагает зрителю вглядеться в древние образы и по-новому осмыслить слова прп. Иосифа Волоцкого, сказанные им в «Духовном завещании» об иконописцах Данииле Черном и Андрее Рублеве (они часто приводились в сокращении в искусствоведческих сборниках): «…на самый праздник светлаго Воскресения на седалищих седяща, и пред собою имуща все честныя и Божественныя иконы, и на тех неклонно зрящя Божестве-ныя радости и светлости исполняху; и не точию на той день тако творяху, но и в прочая дни, егда живописательству не прилежаху. Сего ради Владыка Христос тех прослави и в конечьный час смертный…»
С. С. Аверинцев комментирует: «Об этом рассказано так, что мы понимаем: речь не идет об обычной устной молитве. Они не вставали, не клали поклонов, не вычитывали канонов, даже не говорится, чтобы они творили молитву Иисусову. С другой стороны, речь идет ни о том, что художники любовались шедеврами своего искусства и старались чему-либо научиться… Но в полной неразрывности с этим профессиональным контактом с шедеврами своего искусства, они творили некое духовное делание, но духовное делание, не нуждающееся ни в каких, во всяком случае, внешних актах, отдельных, обособленных от созерцания икон. <…> И место это заканчивается знаменательными словами “за то Господь и прославил их“ <…> То есть это созерцание икон рассматривается как духовный подвиг, за который Бог награждает его делателей»25.
Но все эти удивительные открытия, сделанные в условиях гонений на Церковь, почти подпольно, были отвергнуты современной наукой. Искусствоведение, и светское, и церковное, стало активно приобщаться к западному научно-теоретическому опыту. В отечественной культурологии восторжествовала западноевропейская модель эстетического сознания, возобладали семиотические и иконологические методологические подходы.
Начиная с 60-х гг. XX в., когда новизна идеи стала определяющей для оценки художественной значимости произведения искусства, многие авторы, пишущие об иконах, перестали признавать их искусством, как не имеющим оригинального концептуального ядра26. На фундаменте иконографического метода XIX в. начала развиваться иконология и богословие иконы. В постсоветский период в фокусе оказались ценностные и богословские смыслы, освобожденные от связи с эстетикой. Иконопись стала изучаться как традиционное (ремесленное) художественное явление, в котором отдельный памятник ценен только тем, что его можно поставить в какой-либо художественно-исторический ряд, привязать к определенной школе или стилю. С конца 90-х гг. XX в. иконопись начала активно развиваться, но ее эстетическая сторона как нечто внешнее, оказалась вне поля зрения: есть традиционная форма, есть иконография, необходимо ее воспроизводить и копировать. Важнее оказался выбор — что копировать, в какой технике, можно ли пользоваться современными красками, например, готовой темперой и акрилом?
В результате множества дискуссий церковным сообществом были выбраны конкретные стилистические и технико-технологические приемы, взятые из арсенала искусства Древней Руси XV-XVI вв. Более ранний древнерусский, в том числе западнорусский эстетический опыт, был полностью отвергнут как слишком «авангардный». Византийское же искусство было воспринято через призму новогреческой стилизаторской школы (процессы, происходящие в России, не уникальны). В итоге в современной иконописи, при внешней традиционности, возобладали западноевропейские эстетические традиции, и воспроизводиться стал в действительности не «стиль Рублева», а стиль палехской ремесленной мастерской Н. М. Сафонова. Большая часть церковных дискуссий об эстетике иконописи по сути оказались разговорами не столько об эстетике как богословии Красоты, сколько о творческой свободе и просторности стилистических рамок, в которых ей позволено существовать. К середине 2000-х гг. это привело к закономерному результату: в храмы после некоторых колебаний были допущены академические изображения, а затем и живопись в стиле передвижников — В. Васнецова и М. Нестерова.
Эстетического осмысления православной иконописной традиции в ее живой и динамической целостности не произошло, и история православной иконописи как история «созерцаний», осталась не написанной. Русская религиозная художественная культура так и не обрела своей исконной духовноэстетической целостности и творческого развития, оставшись разделенной старым культурным маркером «Запад — Восток», но не столько между спорящими сторонами, сколько между прошлым и настоящим.
Ремесленный архаичный визуальный образ, естественно, оказался не в состоянии изменить сложившееся в массовом сознании, после длительных периодов атеизма и постмодернизма безразличие к собственному национальному наследию, восприятие фресок как стереотипной храмовой декорации, а икон как богослужебных предметов. Секулярное общество не видит в храмах духовно-эстетической школы Красоты, поэтому противится их строительству, как и внедрению курса православной культуры, поскольку не считает ее культурой в секулярном смысле этого слова. В своем эстетическом развитии мы как бы вернулись в XIX в. Как будто и не было открытия великого искусства иконы, не было и самой великой православной культуры, которая их создавала, а только «умственная закостенелость» и «отсталость». В большей части современные нецерковные люди не заходят не только в новые, но даже в древние храмы, считая их эстетически неинтересными. Русское общество рыдает над сгоревшим Нотр-Дам, но при этом равнодушно проходит мимо затопления Мирожского собора, потому что в большинстве своем не знает об уникальных фресках, которые там находятся.
Православное искусство возрождается сейчас в очень сложных культурных условиях, атакуемое «букетом» антихристианских мировоззренческий явлений, большая часть которых — продукт развития западной культуры. Однако единодушия в приятии этих явлений на самом Западе нет, оно существует только на уровне медиа. Консервативная христианская западная культура не исчезла, не прекратился и многовековой диалог русской и европейской культур. Философско-эстетический анализ Красоты, определение ее онтологических горизонтов и категорий, исторической динамики и национальной специфики визуального опыта постижения духовно-нравственных и эстетических идеалов христианства позволит вернуть православное искусство в широкий контекст мировой культуры. Изучение иконописи в проблемном поле творческого диалога России и Запада позволит глубже осознать уникальность национальной культуры, сделает более глубокими и интересными совместные глобальные национальные проекты, сохраняющих всемирное культурное наследие.
Список литературы Икона в контексте духовно-эстетического диалога России и Запада
- Аверинцев С. С. Свидетельство красотой. Лентелефильм, 1990 // URL: https:// www.youtube.com/watch?v=uch-gFx9TVg (дата обращения 18.03.2020).
- Алпатов М.В. Вопросы изучения и истолкования древнерусского искусства // Искусство. 1967. № 1. С. 64-70.
- Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2002. 540 с.
- Бычков В. В.К философии Лексикона // Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под ред. В. В. Бычкова. М., 2003.
- Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев: Путь к истине, 1991. 406 с.
- Грилихес Л., прот. Шестоднев в контексте Священного Писания // Альфа и Омега. 2005. № 2. С. 14-28.
- Грищенко А.В. Вопросы живописи. [Вып. 3]. Русская икона как искусство живописи. М.: Изд. А. Грищенко, 1917.
- Губарева О. В. Иконопись как зримое воплощение ценностных ориентиров русского народа и русской государственности // Фундаментальные основания государственной культурной политики России: историко-философский аспект / А. Л. Казин и др. СПб., 2017. С. 74-132.
- Губарева О. В. Культурологический анализ интерпретационных моделей иконописи в контексте богословско-эстетической целостности: дисс. ... канд. культурологии. СПб., 2013. 170 с.
- Губарева О. В. Божья Матерь в Ее иконах: опыт художественно-богословского анализа. М.: Паломник, 2006. 158, [1] с.
- Губарева О.В. Михаил Алпатов об искусстве иконы: особенности метода // Временник Зубовского института. 2019. Вып. 1 (24). С. 83-98.
- Губарева О. В. Образно-стилистический метод анализа икон: научная актуальность // Вестник РХГА. 2014. № 1. С. 261-267.
- Жидков Г.В. Московская живопись середины XIV века. М.: РАНИОН, 1928.
- Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. Paris: YMKA-PRESS, 1950.
- Кызласова И. Л. История изучения византийского и древнерусского искусства в России (Ф. И. Буслаев, Н. П. Кондаков: методы, идеи теории). М., 1985.
- Логинов Н. И., Спиридонов В. Ф. Воплощенное сознание как современный тренд развития когнитивной психологии // Вестник СПбГУ. Психология и педагогика. 2017. Т. 7. Вып. 1. С. 25-42.
- Мазур Н. Исследования визуальной культуры: история и предыстория // Искусствознание. 2018. № 1. С. 10-51.
- Муратов П. П. Открытия древнерусского искусства. 1923 г. // Его же. Ночные мысли. Эссе, очерки, статьи 1923-1934гг. / Сост. Ю. П. Соловьёв. М.: Прогресс, 2000. С. 47-67.
- Носкова Л. В. Идея Логоса в русской и западноевропейской культуре: по работам С.Н. Трубецкого и В.Ф. Эрна: дисс. ... канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2011. 162 с.
- Опубликована резолюция конференции «Христианский образ и сакральное пространство» // Православие^^ URL: https://pravoslavie.ru/122943.html (дата обращения: 06.09.2021).
- Осташенко Е.Я. «Успение» — храмовая икона Успенского собора Московского Кремля. К вопросу о развитии живописи Москвы во второй половине XV в. // Древнерусское и поствизантийское искусство. Вторая половина XV — начало XVI века. К 500-летию росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря: сб. статей. М.: Северный Паломник, 2005. С. 40-64.
- Осташенко Е.Я. Андрей Рублёв. Палеологовские традиции в московской живописи конца XIV — первой трети XV века. М.: Индрик, 2005.
- Преображенский В., свящ. Преподобный Феодор Студит и его время. М., 1897. 356 с.
- Раевская Н. Ю. Священные изображения и изображения священного в христианской традиции. СПб.: Сатис, 2011.
- Феодор Студит, прп. Против иконоборцев семь глав // Творения преподобного отца нашего и исповедника Феодора Студита в русском переводе. Т. 1. СПб., 1907.
- Феодор Студит, прп. Слово догматическое о почитании св. икон; Послание к Императору Феофилу и Письмо к Пр. Платону, о том же // PG 99. Col. 327В-436А.
- Харман Д. Д. Творчество Мориса Дени в контексте духовных исканий европейского общества конца XIX — начала XX вв.: автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. М., 2004.
- Borstel J., KorzaP. Aesthetic Perspectives: Attributes of Excellence in Arts for Change Work aims to enhance understanding and evaluation of Arts for Change // Americans for the Arts. 2017. 56 р.