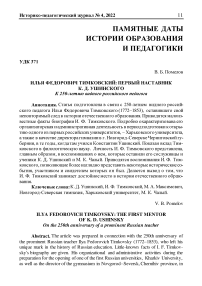Илья Федорович Тимковский: первый наставник К. Д. Ушинского. К 250-летию видного российского педагога
Автор: Помелов Владимир Борисович
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: Памятные даты истории образования и педагогики
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья подготовлена в связи с 250-летием видного российского педагога Ильи Федоровича Тимковского (1772-1853), оставившего свой неповторимый след в истории отечественного образования. Приводятся малоизвестные факты биографии И. Ф. Тимковского. Подробно охарактеризована его организаторская и административная деятельность в период подготовки к открытию одного из первых российских университетов, - Харьковского университета, а также в качестве директора гимназии в г. Новгород-Северске Черниговской губернии, в те годы, когда там учился Константин Ушинский. Показан вклад Тимковского в филологическую науку. Личность И. Ф. Тимковского представлена, главным образом, в воспоминаниях о нем, которые оставили его сослуживцы и ученики К. Д. Ушинский и М. К. Чалый. Приводятся воспоминания И. Ф. Тимковского, позволяющие более наглядно представить некоторые исторические события, участником и свидетелем которых он был. Делается вывод о том, что И. Ф. Тимковский занимает достойное место в истории отечественного образования.
К. д. ушинский, и. ф. тимковский, м. а. максимович, новгород-северская гимназия, харьковский университет, м. к. чалый
Короткий адрес: https://sciup.org/140295977
IDR: 140295977 | УДК: 371
Текст научной статьи Илья Федорович Тимковский: первый наставник К. Д. Ушинского. К 250-летию видного российского педагога
Введение . Большое влияние на формирование личности К. Д. Ушинского в его школьные годы оказал директор гимназии И. Ф. Тимковский, оригинальный мыслитель, лингвист-русист, правовед, педагог и организатор образования, деятель русского и украинского просвещения первой половины XIX в. Его личность незаслуженно обойдена вниманием отечественных историков педагогики. Он лишь изредка упоминается в публикациях, причем исключительно как руководитель гимназии, в которой в детские годы учился будущий великий русский педагог К. Д. Ушинский. Нам не удалось обнаружить ни одной публикации о Тимковском. Тем больше оснований дать обстоятельный научный очерк об этом незаурядном человеке в год 200-летия со дня его рождения.
Материалы и методы. Ведущими методами нашего исследования выступали анализ научных, ме- муарных и публицистических источников, биографический и сравнительно-исторический методы, региональный и аксиологический методологические подходы, открывающие возможность для исследователя определять самое ценное в предмете исследования локальной тематики.
Результаты. Илья Федорович Тимковский родился 15 (26) июля 1772 г. (по другим сведениям – 1773 г.) в городе Переяславе Полтавской губернии1. Родоначальником рода, из которого он вышел, считается казак Тимофей Антонович, которого друзья звали Тимко ; отсюда и пошла фамилия – Тимковский. Один из внуков казака Тимко, отец Ильи Тимков-ского, – дослужился до дворянства, получил чин коллежского асессора. В Черниговской губернии он приобрел хутор, который получил свое название от фамилии владельца, – Тимков-щина, или на украинский манер, – Тымковщина.
вестность город получил при гетмане Бог дане Хмельницком в связи с состоявшейся здесь в 1654 г. так называемой Переяслав ской радой, на которой было принято решение о присоединени и Войска Запорож ского к Русскому царству. В 1943–2019 гг. в память об этом событии город назывался Переяслав-Хмельницкий.

И. Ф. Тимковский (?)
И. Ф. Тимковский был старшим ребенком в семье. У него были четыре брата и сестра. Рано скончавшийся Иван Тимковский (1778–1808) был поэтом и переводчиком. Брат Василий (1781–1832) вошел в российскую историю как гражданский губернатор Бессарабской губернии, довольно известный в свое время писатель. Брат Роман (1785–1820) стал профессором греческой и латинской филологии, деканом словесного факультета Московского университета. Младший брат Егор (1790–1875) стал знаменитым дипломатом.
Сестра Гликерия (1788–1829) известна тем, что была матерью украинского и русского филолога, фольклориста, историка, поэта и ботаника Михаила Александровича Максимовича (1804–1873). Максимович был членом-корреспондентом Императорской Российской академии наук (1871), деканом историко-филологического факультета и первым ректором Императорского Киевского университета Святого Владимира. Среди его друзей и корреспондентов, среди которых были знаменитый историк М. П. Погодин и Н. В. Гоголь. М. А. Максимович также вошел в историю как один из трех самых знаменитых выпускников Новгород-Северской губернии, наряду с К. Д. Ушинским и М. К. Чалым.
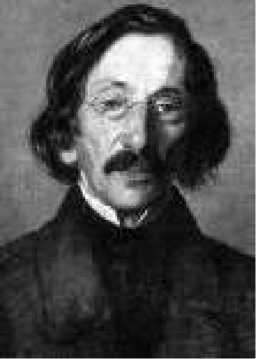
М. А. Максимович
В 1777 г. семья Тимковских переехала в свое имение в Золотонош-скую сотню2, а затем в село Загорское, «на Сумщине».
Первоначальное образование И. Ф. Тимковский получил в семье. Позднее он вспоминал: «Домашнее обучение мое было так многообразно, что, казалось бы странным, если б не было в свойствах того времени. Четыре года его составляют особый век. Первому чтению церковнославянской грамоты научили меня мать и, вроде моего дядьки, служивший в поручениях, из дедовских людей, Андрей Кулид. Отец его был турчин, или булгар, вывезенный в малолетстве дедом при взятии Хотина в полагавшееся в центральной части Украины в 1648–1781 гг. Золотоношская сотня – одна из старейших казачьих сотен. Ее центром был городок Золотоноша.
На смену домашнему обучение пришла учеба в Благовещенском женском монастыре в Золотоноше, где в то время был небольшой пансион. Там же учились впоследствии братья и сестра Ильи Тимковского. В тех местах, на малороссийских просторах, с их естественным природным ландшафтом и такой же харáк-терностью быта и жизни глубинки, с малых лет, впитал он красоту родного переяславского говора. Об этом он пишет в своих воспоминаниях: «Природное наречие Переяславля занимательно своею мягкостью, и в формах его встречаются такие тонкости, которые виднее, чем в киевском. Их можно бы отнесть к некиим остаткам столицы Мономахова века, по крайней мере давнему стечению образованного многолюдства» [Тим-ковский, 1874, стлб. 1406].
В 1781 г. Илья поступил в семинарию в Переяславе, о которой он с благодарностью рассказал в своих «Записках…». Так, об учителях он писал следующее: «Учители были в благоговении, как полубоги… Праздничные и именинные поздравления от всех классов по одному ученику, с их учителями, приносимые архиерею и ректору, в стихах и речах латинских. В том числе и я имел свою долю» [Тимковский, 1874, стлб. 1405].
В 1785 г. И. Ф. Тимковский поступил в знаменитую Киево-Моги-лянскую духовную академию. Один из первых биографов Тимковского, Николай Васильевич Шугуров, служивший членом Киевской судебной палаты, писал: «В то время ежегодно один или несколько человек из окончивших курс академии поступали в Московский университет. Переписывались оттуда со своими товарищами, оставшимися в Киеве. Уехавшие присылали им вести об университете, профессорах и разных подробностях университетской жизни. Эти известия возбудили и в Тимков-ском желание, по окончании курса академии, отправиться в Московский университет» [Шугуров, 1891, с. 219].
В 1789–1797 гг. И. Ф. Тимков-ский учился на юридическом и философском факультетах Московского университета («по части словесности, физико-математических наук, юриспруденции и политики»). За выдающиеся успехи он был награжден четырьмя медалями: две серебряные медали были вручены ему в 1790 г. и 1792 г. по философскому факультету, а третья серебряная и одна золотая (в 1793 г. и 1795 г., соответственно) – по юридическому.
В своих воспоминаниях И. Ф. Тимковский тепло пишет о кураторе университета графе Иване Ивановиче Шувалове (1727–1797), профессоре Антоне Алексеевиче Барсове (1730–1791) и других видных деятелях, имевших отношение к развитию Московского университета. Интересны его зарисовки заседаний «Собрания любителей словесности»: «Заседания открывались тем, что один по очереди читал с кафедры свое сочинение, краткую речь или рассуждение, в приличном роде с ведома председателя. Затем были и другие, которые приносили и читали свои стихи, прозу, изящные переводы, рецензии. Все это обсуждалось подробно, критическим разбором. Входили суждения о новых книгах и мнения о языке и словесности. Случались и споры, которые острили язык» [Тимковский, 1851, с. 44].
Больше всего в годы учебы в университете Тимковский занимался правоведением. «Кончив первый курс, – писал он в воспоминаниях, посвященных И. И. Шувалову, – я предался правам и политике, удержал только прикладную математику, по любви моей: знание побочное, но которое на веку часто было мне пригодно» [Тимковский, 1851, с. 44].
В студенческие годы И. Тим-ковский сотрудничал в газетах и журналах, помещая стихи и статьи в прозе, как переводные, так и оригинальные, за подписью И-я Тмквск . В 1796–1797 гг. появляются многочисленные публикации Тимковского в журнале «Приятное и полезное» (Ч. 9–10, 11–15). Это ландшафтная, любовная и религиозно-моралистическая лирика, отрывки и небольшие рассказы, переводы из ныне совершенно забытых, по крайней мере в России, Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера, Х.-Ф. Геллерта, Ф. Гагедорна и С. Геснера в прозе и стихах.
Он публикует и свои собственные произведения. В рассказе «Беглец» (Приятное и полезное. 1796. Ч. 10), он, следуя популярному тогда Н. М. Карамзину, отстаивает тезис о том, что «чувствительность встречается нам и в низком состоянии», т. е. среди людей «подлого сословия». В качестве примера он рассказывает историю слуги, бежавшего от хозяина, ставшего на путь разбоя, отбывшего наказание и прощенного хозяином. При этом необходимость снисхождения обосновывается автором тем, что на преступления слугу толкнула «чувствительность».
Большей художественной убедительности Тимковский добился в лирическом фрагменте «Взгляд на самого себя. 20 июля 1796» (1796. Ч. 12). Это автобиографическое прощание с юностью окрашено поначалу в грустные тона; в финале отрывка лирический герой обретает успокоение в мыслях о вечной жизни и небесной гармонии. И. Ф. Тимковский публиковал свои стихотворения и в других изданиях: «Стихи на Новый год» («Московские ведомости», 1797. 3 янв., № 1), «Новый Эмиль» («Аониды». 1798–1799. Кн. 3), «Весть» и «Утренняя прогулка» («Новости». 1799. № 5. Май; № 8. Авг.).
Одно из его стихотворений, помещенное в № 1 «Московских Ведомостей» за 1797 г., обратило на себя внимание куратора университета, князя Ф. Н. Голицына.
Генерал-прокурор, князь А. Б. Куракин обратился в университет с просьбой «доставить ему двух сведущих правоведов». Университетская конференция в числе этих двух выбрала и И. Ф. Тимковского. 7 февраля 1797 г. он был отправлен на службу в Санкт-Петербург, где вначале преподавал русское правоведе- ние в Сенатском юнкерском институте, а в 1801 г. поступил в сенатские секретари. В это время Илья Федорович напряженно работал над исследованием, которое задумал, будучи еще студентом университета, – «Систематическое расположение законов российских». Это был первый опыт систематизации законов тогдашней Российской империи.
В итоге, в августе 1802 г. работа была передана в Комиссию составления законов, а ее автор получил Высочайшее благоволение (монаршую награду Российской империи) и бриллиантовый перстень [Максимович, 1898, с. 263].
Председатель комиссии граф Петр Васильевич Завадовский (1739– 1812) предложил Тимковскому войти в состав Комиссии, но тот отказался от столь лестного предложения. (Кстати, П. В. Завадовский стал в 1802 г. первым российским министром народного просвещения).
В том же 1802 г. было образовано, наряду с другими, министерство юстиции. Его первый глава, знаменитый поэт Гавриил Романович Державин (1743–1816) обратился к Тимковскому с просьбой занять должность юрисконсульта в новом ведомстве; на это предложение он ответил согласием. За четыре месяца работы там Тимковский составил проект третейского совестного суда.
В январе 1803 г. сотрудник Министерства юстиции И. Ф. Тимков-ский получил два предложения: от барона Унгерн-Штернберга, представителя созданного в 1802 г. Дерпт-ского университета, занять там место ординарного профессора права; и от графа Северина Осиповича Потоцкого (1762–1829), первого попечителя Харьковского учебного округа, – стать профессором правоведения и судопроизводства Харьковского университета, «об учреждении которого состоялось повеление и который еще предстояло устроить и открыть», а также стать генеральным визитато-ром учебных заведений Харьковского учебного округа. И. Ф. Тимков-ский, «желая служить ближе к родине», отдает предпочтение второму предложению.
Итак, 7 февраля 1803 г. Тим-ковский принял предложение стать ординарным профессором российского правоведения и судопроизводства в новообразованном Харьковском университете с чином титулярного советника. В июне он переселился в Харьков, и вскоре возглавил подготовку к открытию университета; в марте вошел в Комитет университета. 4 апреля 1803 г. Потоцкий дал Тимковскому инструкцию, включавшую в себя указания относительно руководства Харьковским университетом и «визитаторской» деятельностью.
Научная, педагогическая и административная деятельность в Харьковском университете стала по-особому значимым периодом в жизни И. Ф. Тимковского. На этапе подготовки к его открытию он был фактически его руководителем. На его долю выпало немало труда в деле подготовки университета к открытию.
Tимковский был озабочен подготовкой университетского здания, сбором пожертвований на нужды вуза и другими проблемами материального свойства. Приехавшие в Харьков профессора требовали именно от него меблированных квартир, которые были им обещаны еще в Санкт-Петербурге. Именно на этом обещании они и согласились поехать работать в новозаводимом университете. Однако средства на приобретение жилья запаздывали. Также из-за нехватки средств крайне медленно шли работы по перестройке и ремонту помещений, выделенных под нужды учебного процесса.
В конце марта 1804 г. с приездом С. О. Потоцкого для руководства университетом был учрежден комитет в составе пяти профессоров, в который вошел и И. Ф. Tимковский. В своем письме к Тимковскому от 21 июля 1804 г. граф выразил желание, чтобы открытие университета состоялось 30 августа, в день именин российского императора Александра I.
Однако 27 августа Василий Назарович Каразин (1773–1842), планировавшийся в ректоры, ушел в отставку из Министерства народного просвещения. Тем не менее, университет ныне носит его имя, а сам Каразин считается его основателем.
После этой внезапной отставки начало работы вуза откладывалось несколько раз. Ремонтные работы зданий были закончены лишь в октябре 1804 г. Наконец, 17 (29) января 1805 г. состоялось торжественное открытие университета. К этому событию Тимковский составил специальный церемониал и сочинил стихотворную оду для хорового исполнения. Она прозвучала во второй день торжеств, 18 января 1805 г.
Штаты университета были утверждены еще 17 марта 1803 г., и с этого дня И. Ф. Тимковский был зачислен ординарным профессором с поручением преподавать гражданское и уголовное право на кафедре права, гражданского и уголовного судопроизводства в Российской империи [Тимковский, 1908, с. 187]. Он читал курсы русского права (1809), государственное, уголовное и гражданское российское право, «вместе с историей оных», а также законы и форму судопроизводства на факультете нравственно-политических наук, позднее получившем название юридического. Как вспоминали современники, лекции его отличались витиеватостью и вычурностью языка, и поэтому с большим трудом усваивались студентами.
В 1807, 1809 и 1811 гг. его избирали деканом, каждый раз сроком на один год. Любопытен «состав прав и обязанностей декана факультета». В обязанности декана входило, в частности, «рассматривание речей, «приготовленных для чтения в торжественных собраниях» и «рассматривание сочинений», т. е. фактически выполнение функций цензора.
Торжественное собрание университета происходило ежегодно, 30 августа, а речи должны быть представлены для утверждения ректором к 15 июля. Так, в 1808 г. профессор Тимковский произносил речь «О применении знаний к состоянию и цели государства», в 1810 г. – речь «О поместьях». Он также входил в правление университета, училищный и цензурный комитеты.
Преподавательский состав факультета, на котором работал
И. Ф. Тимковский, в первые годы состоял из него и трех немцев (Иоганн Шад, Иосиф Ланг и Иоганн Гам-перле), причем один из них был «бывший бенедиктинский монах». Этим определялась система обучения и специфика аттестования студентов. «Из приведенных протоколов испытаний за первые три года существования университета мы видим, что испытания студентов при переходе их с курса на курс производились из тех же предметов, которые они слушали на курсе, а на окончательном испытании – из всех предметов, прослушанных ими в течение 3-х лет; испытание производилось по программам, составленным преподавателями на латинском, немецком и русском языках; студенты брали по жребию по три билета из каждого предмета и отвечали на языке, доступном экзаменатору » (выделено нами, – В. П.) [Тимковский, 1908, с. 21].
Порой доходило до прямо-таки анекдотических ситуаций. Латинский язык считался «общеизвестным языком», который знали все студенты и преподаватели, а вот русский язык профессорам Шаду и Лангу «был недоступен». Поэтому специально для них программу испытания у профессора Тимковского необходимо было перевести с русского языка на латинский, с тем, чтобы немецкие профессора были в состоянии, хотя бы в общих чертах, понимать, присутствуя на экзамене, то, что будут им рассказывать студенты.
Еще одной сложной проблемой, которую приходилось решать именно Тимковскому, был набор студентов. В то время в Харьковском учебном округе не было ни одной гимназии, поэтому в число студентов первого курса поневоле приходилось привлекать даже семинаристов [Тмковский, 1908, с. 188].
С 1810 г. И. Ф. Тимковский состоял членом учрежденного при университете «Комитета для испытания чиновников и преподавания наук молодым людям, обязанным гражданскою службою» [Тимковский, 1908, с. 191]. Фактически этот комитет занимался повышением квалификации чиновников и их аттестацией, что было значительной инновацией для того времени.
В 1811 в г. Харькове вышла книга И. Ф. Тимковского «Опытный способ к философическому познанию российского языка». Подробный анализ этого замечательного сочинения, представляющего собой значительный вклад в русское языкознание, дал современный исследователь О. В. Никитин [Никитин].
За свои преподавательские и научные заслуги И. Ф. Тимковский был удостоен степени доктора философии Харьковского университета (1807). 18 декабря 1804 г. Харьковский университет, а 30 июня 1805 года Московский университет признали его доктором прав honoris causa. В 1809 г. Геттингенское научное общество избрало его своим членом за работу «Сравнение юстиниановых законов с российскими».
Спустя многие годы после ухода «устроителя» университета, добрая память о нем сохранялась, что находило свое отражение в исторических материалах. Историк университета, профессор Дмитрий Иванович Багалей писал в юбилейном сбор- нике: «Тимковский обладал огромной педагогической опытностью и редкой любовью к школьному делу. Его заслуги в деле первоначального устройства были весьма велики, и их по справедливости оценил благодарный ему университет, который по выходе Тимковского в отставку, постановил внести в журнал следующее постановление: «Университет всегда с величайшею признательностью будет вспоминать, что устройство весьма многих училищ в округе нашего университета, теперь цветущих, обязано благоразумию, усердию и неутомимому труду проф. Тимковского» [Багалей, 1894, с. 191].

Д. И. Багалей
В первом томе «Опыта истории Харьковского университета» Д. И. Багалей пишет: «На второе место, вслед за В. Н. Каразиным, мы ставим профессора И. Ф. Тимков-ского. Это был чрезвычайно полезный практический деятель по части устроения университета, заботливый, сведущий, добросовестный хозяин, вникавший во все мелочи, спокойно, ровно, без скачков делавший свое нелегкое дело. Он, как мы ви- дели, заменил В. Н. Каразина в Харькове, и до открытия действий Комитета единолично принимал все подготовительные меры к скорейшему открытию университета» [Багалей, 1894, с. 192].
Активная деятельность И. Ф. Тимковского проявлялась также в «визитации» школьных заведений обширного в то время Харьковского учебного округа. О результатах своих ревизий он представлял подробные, хранившиеся в архиве Харьковского университета, отчеты, попечителю или его заместителю H. H. Новосильцеву. Тимковский проверял при ревизиях не только познания учеников, но и самих учителей; планировал проведение при университете краткосрочных педагогических курсов для учителей. В своих отчетах он высказывался за широкое распространение грамотности среди крестьян.
И. Ф. Тимковскому была также поручена ответственная работа по устройству средних учебных заведений (гимназий), разработке гимназических учебных программ, и осуществлению попечительства над ними. При содействии И. Ф. Тимков-ского были открыты Харьковская, Черниговская, Екатеринославская, Воронежская, Новгород-Северская, Таганрогская и Одесская гимназии, а также многочисленные уездные училища в этих губерниях.
Д. И. Багалей отмечал: «Назначение учителей в открываемые гимназии и училища зависело, главным образом, от Тимковского. Он же в большинстве случаев лично выезжал открывать гимназии, сочинял церемониалы их открытия, произносил речи, экзаменовал зачисленных в гимназии учеников, давал наставления директорам и учителям, составлял списки книг для гимназических библиотек и др.» [Тимковский, 1908, с. 191].
В августе того же года Илья Федорович, ссылаясь на расстроенное во время служебных разъездов здоровье, подал прошение об увольнении в отставку. Университет не желал отпускать от себя человека, столь много сделавшего для него, и ему было предложено воспользоваться годичным отпуском с сохранением полного жалованья. 29 августа 1811 г. Тимковский был уволен по причине болезни с сохранением жалованья на один год. 2 сентября 1813 г. «по причине неизлеченной болезни и поданного вторичного прошения» уволен «с пенсиею в год по тысяче рублей» [Словарь русских писателей, 2010, с. 210].
И. Ф. Тимковский проявил себя как патриот в годы Отечественной войны. 18 августа 1812 г. он был избран членом дворянского комитета, снаряжавшего ополчение, и состоял в этом комитете по 2 января 1815 г. «Тогда же мы в Глухове, – рассказывал он в своих воспоминаниях, – положили свой совет, на случай входа войск неприятеля, всем владельцам, не отставая от своих имений, ради устройства и целости в них, собраться в городе, как для общей безопасности, так и для связных действий» [Тимковский, 1854, с. 129] .
Неприятель, как известно, не добрался до малороссийской глубинки, но вся округа в течение всего периода наполеоновского нашествия находилась в предчувствии большой тревоги; все ожидали последних известий. «Кутузов, – писал И. Ф. Тим-ковский, – держался пословицы: стели неприятелю золотой мост. Мы о бегущих получали карикатуры. Сами мы перешли на содержание своего ополчения и разные поставки для войск» [Тимковский, 1854, с. 130].
С 1815 г. И. Ф. Тимковский служил два трехлетия выборным судьей в Глуховском уезде. В 1825 г. вновь назначенный попечитель Харьковского учебного округа А. А. Перовский предложил ему занять должность директора Новгород-Северской гимназии.
В августе того же года он принял это предложение. До этого первым директором гимназии был ее основатель Иван Иванович Халанский (1749 –1825) . О нем известно следующее. Он был родом из села Халань, что «на Слобожанщине». С 1774 г. служил канцеляристом в Санкт-Петербурге. В 1778 г. поступил на армейскую службу в должности полкового квартирмейстера Украинского гусарского полка. В 1782 г. получил звание капитана. В 1784–1789 гг. – прокурор Новгород-Северского земского суда. В 1789–1805 гг. трудился в области народного просвещения в Новгоро-Северске, Стародубе, Глухове и Чернигове. В 1805 г. он стал основателем народного училища в Новгород-Северске и первым директором гимназии в этом городе (1808– 1825).

И. И. Халанский (?)
Вокруг гимназии сплачивалась культурная среда, в кругу которой, кстати, была найдена «История русов», исторический труд, написанный в виде политического памфлета в конце XVIII в., или в начале XIX в. Предполагаемым автором был архиепископ Белорусский Георгий Ко-нисский.
Преподававший там в 1810 год у Иван Николаевич Лобойко (1786–1861), впоследствии заслуженный профессор Виленского университета, филолог и историк, в своих воспоминаниях указывал, что И. Ф. Тимковский был зятем И. И. Халанского.
Новгород-Северская гимназия вела свое начало от малого народного училища, открытого в 1789 г. в соответствии с реформой российского образования, принятой тремя годами ранее по инициативе знаменитого поборника просвещения Федора Ивановича Янковича де Мириево (1741– 1814), приглашенного Екатериной II из Австро-Венгрии в Россию для осуществления этой реформы. В соответствии с ней в России были учреждены главные и малые народные училища. Первые открывались в губернских городах; вторые – в уезд- ных городках. В 1804 г. грянула новая реформа образования, которая копировала систему просвещения Франции. Малые училища преобразовывались в уездные училища, а главные – в гимназии. Был издан «Устав учебных заведений, подведомых университетам». Согласно принятому уставу страна была поделена на шесть учебных округов: Московский, Санкт-Петербургский, Казанский, Харьковский, Виленский и Дерптский. Во главе каждого учебного округа стояли университеты. Была установлена строгая зависимость всех звеньев образования, а именно, одногодичные приходские училища подчинялись смотрителю уездного училища, уездные училища – директору гимназии, гимназии – ректору университета, университет – попечителю учебного округа. Последними были, обычно, высокопоставленные персоны, вроде графа С. Г. Строганова. Контроль за работой гимназий осуществлялся, конечно, не лично ректором, а специально назначенным им и попечителем учебного округа для этой цели авторитетным уполномоченным, – визитатором.
Процесс преобразования не совершался автоматически; многие училища, не соответствовавшие новым требованиям, были просто закрыты, или даже переведены из разряда главных не в гимназии, а всего лишь в уездные училища. При этом работа именно Новгород-Северского училища оценивалась достаточно высоко со стороны генерального визи-татора Харьковского учебного округа Ильи Федоровича Тимков-ского. Он ознакомился с его работой и высказался не только за его сохранение, но и за преобразование училища в четырехклассную гимназию. Спустя еще несколько лет, в соответствии с училищным уставом 1828 г., имевшиеся в Новгород-Северске уездное (поветовое) училище и четырехклассная гимназия планировалось преобразовать уже в семиклассную гимназию. Преобразование это готовилось постепенно и началось только в 1832 г.
Годы шли, и гимназическое здание сильно обветшало. К. Д. Ушинский в своих воспоминаниях дал такое его описание: «Длинное, низенькое, ветхое, почерневшее здание со своей скверной, украшенной флюгером, будочкой наверху, в которой качался неугомонный колокольчик, походило, по мнению окрестных помещиков, более на паровую винокурню, чем на храм науки: окна в старых рамах дрожали, подгнившие полы, залитые чернилами и стоптанные гвоздями каблуков, скрипели и прыгали; расколовшиеся двери притворялись плохо, длинные старые скамьи, совершенно утратившие свою первоначальную краску, были изрезаны и исписаны многими поколениями гимназистов. Чего-чего только не было на этих скамьях! И ящички самой замысловатой работы, и прехитрые многосложные каналы для спуска чернил, и угловатые человеческие фигурки, солдатики, генералы на лошадях, портреты учителей, бесчисленные изречения, бесчисленные обрывки уроков, записанных учеником, не понадеявшимся на свою память, клеточки для игры в скубки, состоявшей в том, что гимназист, успевший поставить три креста сряду, драл немилосердно своего партнера за чуб. Старые почерневшие портреты героев екатерининского времени в старых, источенных червями рамах качались на стенах, украшенных обрывками обоев. Плохо было это здание, но мне жаль его, как жаль первых и живых снов своей детской жизни» [Ушинский, 1988, с. 311].
Далее К. Д. Ушинский замечает, что ныне это старое здание заменено «прекрасным, каменным». В самом помещении гимназии во времена учебы в ней Константина Ушинского проживали некоторые учителя с семьями и старики-сторожа. Количество учащихся превышало четыреста человек. Новгород-Северская гимназия в то время была единственной на несколько соседних губерний. Центром притяжения всех гимназистов, – вспоминал Ушинский, – была шопа. Это была деревянная беседка, располагавшаяся прямо перед входом в здание гимназии. На ней располагались торговки, предлагавшие свой соблазнительный для детворы товар: арбузные и тыквенные семечки, бублики, маковники, шишки, орехи и прочие лакомства.
В гимназии Константин Ушинский был примерным учеником. Он много читал, часто был инициатором диспутов на различные темы. Его одноклассник Иосиф Самчевский вспоминал: «Ученики высших, четвертых классов каждый месяц в присутствии директора и учителей читали свои сочинения… Из числа учеников, отличившихся тогда первыми опытами своих сочинений, были… Константин Ушинский [Из летописи…, 1988, с. 388].
Как отмечали позже его биографы, он терпеть не мог подхалимства среди учеников и несправедливости некоторых учителей. С особым уважением юный Ушинский относился к директору гимназии И. Ф. Тимковскомуи к учителю истории М. Г. Ерофееву. Именно от этих преподавателей гимназист Ушинский узнал о брошюре «Донесение следственной комиссии, направленной в 1825 году против декабристов» и о деле «О политическом вольнодумстве некоторых профессоров и учащихся Нежинской гимназии высших наук» [Помелов, 2013, с. 37].
Вкратце поясним в чем, собственно, заключалось «вольнодумство». Педагогический состав Нежинской гимназии высших наук резко делился на две противостоящие друг другу по своим общественным взглядам группы.
-
7 мая 1827 г. в конференцию («совет») гимназии старший профессор юридических наук, преподаватель естественного права М. В. Биле-вич подал рапорт, в котором говорилось о замеченных у учеников «некоторых оснований вольнодумства», причину которых следовало искать в том, что младший профессор политических и юридических наук Николай Григорьевич Белоусов читал лекции не по книге, а по своим запискам [Егоров, 1992, с. 56]. Иными словами, он обвинил его в вольнодумстве и в развращении учащихся. Основания для такого обвинения, безусловно, были. Так, учеников 7 класса Белоусов спрашивал о том, что необходимо сделать с царем, который употребляет свою власть не в интересах народа. Дети, разумеется, смущенно
молчали, и не осмеливались давать ответ. Тогда Белоусов «подсказывал» им «нужный» ответ: «Такого царя следует сместить с престола!» [Поме-лов, 2013, с. 20].
Н. Г. Белоусов в своих лекциях действительно критиковал царскую власть и призывал к уничтожению монархии. Белоусова поддерживал заместитель директора Казимир Варфоломеевич Шапалинский. Юный Николай Гоголь, в те годы учащийся лицея, тоже был на стороне Белоусова и пытался его поддерживать. Было учреждено следствие, тянувшееся более трех лет. Из столицы прибыл специальный «обследователь». Несколько дней проходили допросы учеников. «Обследователь» составил соответствующий доклад, в результате которого последовало утвержденное Николаем I в декабре 1830 г. постановление министерства народного просвещения о том, чтобы профессоров Шапалинского и Белоусова «за вредное на юношество влияние отрешить от должности с внесением этих обстоятельств в их паспорта, дабы таковым образом они и впредь не могли быть нигде терпимы к службе по учебному ведомству» [Официальная часть, 1846, с. 10–11]. В гимназии начались беспорядки. Во время обысков у лицеистов обнаружили запрещённые книги. «Дело о вольнодумстве» для Шапалинского закончилось бессрочной ссылкой в г.
Вятку, где он впоследствии и скончался [Помелова, 2002, с. 93]3.
К. Д. Ушинский в воспоминаниях об обучении в Новгород-Северской гимназии писал: «Воспитание, которое мы получили... в бедной уездной гимназии маленького городка Малороссии Новгорода-Север-ского, было в учебном отношении не только не ниже, но даже выше того, которое в то время получалось во многих других гимназиях. Этому много способствовала страстная любовь к науке и несколько даже педантическое уважение к ней в покойном директоре… гимназии, старике профессоре, имя которого известно и ученой литературе, – Илье Федоровиче Тимковском» [Ушинский, 1988, с. 309].
К. Д. Ушинский обращался в воспоминаниях к памяти своего первого наставника: «Твоим нелицемерным, продолжавшимся до гроба служением науке, твоим благоговейным отношением к ней и твоею постоянною верою в другую, гораздо более высшую святыню ты посеял в сердцах своих воспитанников такие семена, которые да поможет им бог передать своим детям. Искренние ученые стремления и глубокие религиозные убеждения, соединявшиеся в незабвенном Илье Федоровиче, имели сильное влияние на гимназию. Почтенный старик, переходивший беспрестанно от Горация и Вергилия к Библии и от постовых молитв, которые он сам читал в кругу гимназистов, к цитатам из Тацита и Цицерона, был и в то время явлением не совсем обыкновенным, а ныне даже очень и очень редким. Вот почему во время Ильи Федоровича Тимков-ского воспитанники Новгород-Северской гимназии отличались на экзаменах во всех университетах. Между нами жило, мы и сами не знали почему, какое-то благоговейное уважение к науке и к тем немногим учителям и даже товарищам, которые ревностно ею занимались. Умение переводить трудные места Горация или Тацита было патентом на всеобщее уважение. Такого ученика VII класса знали даже довольно оборванные мальчуганы первейшего (т. е. приготовительного) класса, смотрели на него с уважением и произносили его имя как имя какого-нибудь Гумбольдта. Другие предметы были слабее, а новые языки, по неимению ни хороших преподавателей, ни хороших руководств, шли очень плохо. Старик директор появлялся в гимназии редко, но его появление было каким-то страшным судом для когда Герцен был признан государственным преступником, решение об издании речи было признано ошибочным, и вина за это была возложена на Шапалинского, которого по этой причине сослали еще дальше, в Яранск, заштатный городок в Вятской губернии. В самом деле, не мог же губернатор сослать туда самого себя?!
воспитанников, хотя, надобно заметить, он, кроме первейшего класса, нигде не дозволял употребления розог» [Ушинский, 1988, с. 310].
И далее Ушинский продолжает: «Но, несмотря на замечательную личность директора, несмотря на то, что Новгород-Северская гимназия была одною из лучших в то время, если теперь припомнить всё, что могла дать она прилежнейшим из своих учеников, то нельзя не сознаться, что все это было весьма не обширно. Хорошо уже и то, что у большей части учеников были любимые предметы; но вообще учение далеко не достигало той полноты подготовительных сведений, которых можно и должно требовать от гимназии. Мы узнавали только кое-что то из той, то из другой науки; но любили и уважали то, что узнавали, и это уже было много. Плохие, тощие учебники и отсутствие всяких педагогических сведений в преподавателях всего более были причиной такой неполноты сведений, потому что при хорошем учебнике и благоразумной метóде и посредственный преподаватель может быть хорошим, а без того и другого и лучший преподаватель с такими редкими способностями и таким рвением к делу, которые трудно предположить в человеке, ограничившемся скромною учительскою карьерою и скудным учительским жалованьем, долго, а может быть и никогда, не выйдет на настоящую работу» [Ушинский, 1988, с. 310].
Впоследствии К. Д. Ушинский хорошо узнал внутренний мир столичных школ, и «узнал, что в иных огромных детских казармах, где все так вылакировано, вычищено, все блестит и сверкает, все хвастливо кидается в глаза своей обдуманностью и порядком, где дети находятся ежеминутно под бдительным надзором неусыпных начальников, украшенных за свою бдительность всеми возможными отличиями, – заводятся между детьми те же пороки, которые водились и между нами в бедных лачугах Новгород-Северска. Только эти пороки принимают здесь еще более характер повальных болезней, тщательно скрываемых, но не искореняемых начальством» [Ушинский, 1988, с. 313]. Лишь в зрелом возрасте Ушинский оценил положительные стороны школы, в которой ему довелось учиться в детстве: «О! тогда я оценил по достоинству и постовые молитвы покойного Ильи Федоровича и наше уважение к одам Горация, и нашу любовь к учителю истории, и нашу гордость своими маленькими сведениями, и почтительный страх, который овладевал нами при слове: университет!» [Ушинский, 1988, с. 313].
И. Ф. Тимковский принял гимназию в период ее преобразования из четырехлетней в семилетнюю. Несомненно, он обладал большим педагогическим опытом, и был передовым педагогом, отстаивавшим уже в то время необходимость грамоты для крестьянства. Он боролся с механическими методами преподавания, требовал от учителя разумного и обстоятельного, основанного на твердом знании объяснения урока.
В первые годы заведования Тимковским гимназией произошло некоторое уменьшение числа учащихся ввиду строгости экзаменов, как вступительных, так и переводных, но вслед за тем число это стало быстро возрастать: в 1833 г. было 126 учеников, а в 1838 г. – 454. Поэтому в Новгород-Северской гимназии раньше, чем во многих других гимназиях, потребовалось разделить первые три класса на два отделения, о чем состоялось Высочайшее повеление 27 декабря 1838 г.
В качестве директора гимназии он занял в ней своеобразное положение. Себя он считал высшим руководителем и наблюдателем за жизнью гимназии в целом, и поэтому возложил повседневную будничную работу по гимназии на инспектора, на котором и лежала забота о поведении учащихся и организации учебной жизни, а также наблюдение за ходом преподавания. Сам же он по-прежнему почти безвыездно проживал в своем имении, наслаждаясь природой и перечитывая римских классиков. В гимназии он появлялся всего несколько раз в году, чтобы прочесть ученикам какую-либо речь или в конце года провести экзамены. Несмотря на такие, исключительно льготные условия, созданные им для своей работы, И. Ф. Тимковский, тем не менее, оказывал огромное нравственное влияние на гимназию в целом, т. е. на учеников и учителей своей личностью.
Михаил Корнеевич Чалый (1816–1907), впоследствии крупный литературовед, друг и биограф Т. Г. Шевченко, а в детские годы товарищ и одноклассник Ушинского по гимназии, оставил очень интересные воспоминания о директоре И. Ф. Тимковском. «Илья Федорович, уезжая в свое имение Турановку в 40 верстах от города на каникулярное время, оставался там до конца октября, наслаждаясь по примеру Горация Флакка, своего любимца, прелестями сельской природы. С конца октября до конца декабря директор жил в своем городском доме, но гимназии не посещал. Приезжая во время роспуска учащихся на вакации 20 декабря, собирал всю гимназию в залу, говорил viva voce (т. е. устно, экспромтом – В. П.) речь и надобно знать, что эти речи-импровизации были лучшими его произведениями: он говорил увлекательно, убедительно и просто. Темами для своих речей И. Ф. обыкновенно избирал какой-нибудь афоризм или изречение знаменитого мужа вроде, например, следующего: «Император Тит, недовольный проведенным днем, говорил своим друзьям: Amici! Hodie diem perdidi». (Друзья! Сегодня я потерял день! – В. П.). Затем следовало развитие главной мысли применительно к жизни ученика.
По окончании речи он давал воспитанникам трех высших классов несколько тем на праздники и уезжал в свою Турановку до поста. В продолжение великого поста директор приезжал в гимназию только раз, на Андреево стояние (Чтение в середине великого поста покаянного канона Андрея Критского), а потом уезжал из города встречать в деревне весну и возвращался в конце мая, перед самыми экзаменами, на которых он просиживал ежедневно по десяти часов... На экзамен директор привозил целую гору классиков и заставлял нас всегда переводить места незнакомые, продерживая ученика возле стола больше часу. Всегда ровный, спокойный, директор сохранял олимпийскую невозмутимость, когда все вокруг волновалось... Экзамены производились при самой торжественной обстановке: посреди зала ставился длинный, покрытый красным сукном стол, какое-то необыкновенное кресло для директора, напоминавшее трон великих князей московских; на столе лежала целая куча книг в красивых заграничных переплетах и редкие издания римских классиков, из которых мы должны были переводить á livre ouvert (с закрытыми книгами), начиная с V класса.
Любимыми предметами Ильи Федоровича были латынь и русская словесность. Экзамены по этим предметам тянулись иногда с утра и до полуночи. Ученики переводили выбранные им самим отрывки из прозаиков и поэтов. Уже между учениками V класса были такие бойкие латинисты, которые довольно свободно переводили «Георгики» Вергилия, «Элегии» Овидия и даже некоторые из речей Цицерона. Напавши на такого доку, директор оживлялся и долго не отпускал его от стола, наслаждаясь красотами выражений и успехами испытуемого. Но не на одних отличных останавливал свое внимание наш директор. И посредственные ученики от него не скоро отделывались. С необыкновенным терпением он выслушивал не вполне удовлетворительный ответ и весьма искусными приемами старался навести его на дорогу, помогая делать анализ и конструкции слов и заставляя усиленно работать мозгами, и только тогда оставлял его в покое, когда убеждался в его неспособности» [Чалый, 1889, с. 87–88].
М. К. Чалый вспоминал, что директор Тимковский не одобрял телесных наказаний, бывших во всеобщем употреблении в школах, и рекомендовал учителям ограничиваться только более мягкими мерами, которые не могут оказать дурного влияния на характер. В то же время, Ушинский упоминает в воспоминаниях о палях (удар линейкой по ладони), стоянии на коленях, ночевке в сторожке и т. п. Увольнения, т. е. разрешение на пропуск занятий, допускались только в исключительных случаях. Однажды инспектор представил к увольнению из школы злостного нарушителя дисциплины ученика Трипольского. По этому случаю, – вспоминал М. К. Чалый, – «директор приехал в гимназию и тотчас велел собрать в залу все классы, сказал трогательную речь об испорченности молодого поколения, привел цитаты из Саллюстия и Тацита; наконец, вызвал на середину Трипольского и голосом, полным негодования, сопровождая слова выразительными жестами, сказал: «Иди от нас! Не оскверняй своим дыханием святилища науки и доброй нравственности». У порога стоял сторож Парамон с грязной метлой, которой и выметал за гимназические ворота негодный сор» [Чалый, 1889, с. 305]. Как видим, Тимковский был не чужд патетики и, что называется, «умел вставать в позу».
М. К. Чалый вспоминал с юмором о почтенном педагоге Игнатьеве «с его любезной «арифметичкой», представлявшейся нам не иначе, как в образе синей тетрадки, в которой нам досконально были известны все задачи со всеми их нехитрыми решениями. Мы отлично понимали, как «в один высокоторжественный день выстрелено было из пушек 101 раз и сколько пороху на эти выстрелы было потрачено», «как катилось колесо и сколько раз оборотилось оно в минуту». Задачи эти много лет повторялись слово в слово, так что не знать их решения мог только самый несообразительный человек» [Чалый, 1889, с. 81]. Сменивший его новый математик стал требовать от учеников не только решения задач, но еще и рассуждений.
Вспоминал Чалый и «латиниста», который, желая привлечь внимание учащихся к изложению жизнеописания греческого военачальника Датама, жившего в IV в. до н. э., руководствовался казавшихся ему увлекательными трудами древнеримского историка I в. до н. э. Корнелия Непота. Стоило учителю лишь начать свой рассказ: «Вообразите, господа, как этот воинственный муж скачет на коне», как ученики тут же, с «самым серьезным видом» начинали задавать ему «уточняющие» вопросы, демонстрируя «заинтересованность» в латыни: «А какой масти была лошадь у Датама? А как ехал Датам, – рысью или галопом? Чем кормил Датам своего коня, – овсом или сеном» [Чалый, 1889, с. 85]. Вместе с тем, и М. К. Чалый, и К. Д. Ушинский с благодаростью вспоминают и любимых учителей, в частности, историка Михаила Ерофеева.
Успешная педагогическая деятельность И. Ф. Тимковского побудила попечителя вновь образованного Киевского учебного округа Егора Федоровича фон Брадке (1796– 1861) предложить ему занять место директора Нежинского лицея в 1834 г., но Илья Федорович отказался, мотивируя отказ желанием быть поближе к своим родным и привязанностью к Новгород-Северской гимназии. Да и возраст уже давал о себе знать.
Окончательно И. Ф. Тимков-ский вышел в отставку в 1838 году; предписанием от 21 октября был уволен с пенсией 2000 рублей и с «пожалованием в одной из великорусских губерний имением в количестве 1000 десятин» [Историческая записка…, 1889, с. 86]. Он поселился в своем имении Турановка (по другим данным – Турхановка), в Черниговской губернии, где деятельно занимался хозяйственными и семейными делами, написанием воспоминаний.
Особенно увлекался И. Ф. Тим-ковский в эти годы пчеловодством, и в журнале в 1853 г., № 19, вышла его публикация «О состоянии пчеловодства в Черниговской губернии». Тим-ковский написал также свои воспоминания, о которых с похвалой отзывался знаменитый истории М. П. Погодин; они были опубликованы в «Москвитянине» (1852), и перепечатаны в «Русском Архиве» (1874). В «Москвитянине» вышла также его статья «Судья и парадоксы» (1855, № 19).
О личной жизни Тимковского практически нет сведений. Известно, что у него были дети: Василий, Елизавета, Николай, Варвара, София.
И. Ф. Тимковский скончался в поместье Турановка 15 (27) февраля 1853 г.
P. S. Данная статья была уже готова к опубликованию, когда ее автор получил сообщение от историка Владимира Алексеевича Корсакова, который обратил наше внимание на то, что фотопортрет И. Ф. Тимков-ского, который, кстати, приводится и в данной публикации, а также в целом ряде других источников, в частности, в Википедии, на сайтах Харьковского университета и Новгород-Северской гимназии, в книге «К. Д. Ушинский в портретах, иллюстрациях, документах» (Ленинград, 1950), в собрании сочинений К. Д. Ушинского 1980-х гг. и т. д., является изображением другого человека, а именно – И. И. Халанского. В доказательство В. А. Корсаков приводит заметку биографа И. Ф. Тим-ковского Н. В. Шугурова из издания «Киевская старина» № 12 за 1891 г. под названием «Невольная ошибка (Письмо в редакцию).
Приведем этот материал полностью: «В августовской, сентябрьской и октябрьской книжках Киевской Старины за этот год была напечатана моя статья «Илья Федорович Тимковский», сопровождавшаяся приложенным к сентябрьской книжке портретом, на котором, по ошибке типографии, не было сделано подписи. Теперь обнаружилось, что типография была права в своей ошибке, (хотя и не сознавала этого), и что при изготовлении портрета произошла другая, очень прискорбная для меня ошибка, о которой я считаю своим долгом рассказать.
Желая приложить к своей статье портрет И. Ф. Тимковского и помня, что в Новгород-Северской гимназии сохраняются портреты ее двух первых директоров, т. е. И. И. Халанского и И. Ф. Тимковского, я, не имея возможности быть лично в Нов-город-Северске, отнесся туда с письменной просьбой снять для меня фотографическую копию с имеющегося в гимназии портрета И. Ф. Тимковского. В ответ на эту мою просьбу я получил тот портрет, снимок с которого приложен к сентябрьской книжке Киевской Старины. Теперь, когда статья моя появилась в печати, я получил от внучки И. Ф. Тимковского О. А. Постель-никовой, которой я обязан возможностью ознакомиться с сообщенными в моей статье рукописными материалами, – известие о том, что единственная из дочерей И. Ф. Тимковского, остающаяся в живых, Елисавета Ильинична Андреева, по рассмотрении приложенного к Киевской Старине портрета, нашла, что это портрет не отца ее И. Ф. Тимковского, а ее деда – И. И. Халанского. Из этого видно, что при исполнении моей просьбы, о которой я упомянул выше, в Новгород-Северске перепутали один портрет с другим, и что в гимназии, сохранившей портреты двух первых директоров своих, не сохранилось достоверной памяти о том, который именно из этих двух портретов изображает И. Ф. Тим-ковского и который – И. И. Халанского, благодаря чему я и впал в невольную ошибку.
Желал бы, по мере возможности, исправить эту ошибку и чувствую, что исправление должно быть двоякое: вместо портрета, ошибочно приложенного к моей статье, надо дать действительный портрет И. Ф. Тимковского; с другой стороны, так как вследствие описанной ошибки Киевская старина дала своим читателям портрет И. И. Халанского, и так как это был тоже небесполезный деятель, то нужно познакомить читателей с личностью этого человека. Постараюсь со временем исполнить это, если не встретится к тому каких-нибудь препятствий. Примите уверение в совершенном своем уважении. Н. Шугуров».
К сожалению, Н. В. Шугуров не реализовал это свое намерение. Во всяком случае, в последующих номерах «Киевской Старины» к данному вопросу больше не было обращений.
Приходится признать, что не исключено, что мы так никогда точно и не узнаем, как в действительности выглядел И. Ф. Тимковский.
Данная статья сопровождается несколькими фотографиями. Фотопортреты профессоров Д. И. Багалея и М. А. Максимовича не вызывают сомнений. Что касается портретов И. Ф. Тимковского, и особенно И. И. Халанского4, то в свете вышеизложенного, их истинность под очень большим вопросом, поэтому мы и сопровождаем их вопросительным знаком.
Как бы там ни было, личность своеобразного, во многих отношениях замечательного педагога, организатора российского образования И. Ф. Тимковского заслуживает доброй памяти потомков, а его биография и научное наследие – дальнейшего изучения.
Список литературы Илья Федорович Тимковский: первый наставник К. Д. Ушинского. К 250-летию видного российского педагога
- Багалей, Д. И. Опыт истории Харьковского университета / Д. И. Багалей. – В 2 томах. – Т. 1. – Харьков. – 1894. – 420 с. – Текст: непосредственный.
- Егоров, А. Д. История лицеев в России от основания до закрытия (даты, события, факты) / А. Д. Егоров. – Иваново: Изд-во ИИСИ, 1992. – 152 с. – Текст: непосредственный.
- И-в, Е. Тимковский Илья Федорович / Е. И-в // Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / Под ред. проф. М. П. Чубинского и проф. Д. И. Багалея. –Харьков. – 1908. – 390 с. – Текст: непосредственный.
- Из летописи жизни и деятельности К. Д. Ушинского (Воспоминания Иосифа Самчевского. Киев 1894) // Педагогические сочинения: в 6 т. – Т. 1. / Сост. С. Ф. Егоров. – Москва: Педагогика, 1988. – С. 387–402. – Текст: непосредственный.
- Историческая записка о Новгород-Северской гимназии / Сост. учитель Иван Панаженко. – Киев: тип. С. В. Кульженко. – 1889. – 76 с. – Текст: непосредственный.
- Максимович, М. А. Воспоминание о Тимковских / М. А. Максимович // Киевская старина. – Т. 63. – 1898. – № 11. – С. 260–272. – Текст: непосредственный.
- Никитин, О. В. Илья Федорович Тимковский и его «Опытный способ к философическому познанию российского языка». – Текст: электронный. – URL: http://www.portal-slovo.ru
- Официальная часть // Журнал министерства народного просвещения. Санкт-Петербург, 1846. – Часть 52. – С. 10–11. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Российская педагогика в лицах: монография / В. Б. Помелов. – Саарбрюккен (Германия): LAP Lambert Academic Publishing. – 2013. – 612 с. – Текст: непосредственный.
- Помелова, Е. В. Ссыльный профессор К. В. Шапалинский (из Вятского окружения А. И. Герцена) / Е. В. Помелова // YIII Герценовские Чтения: материалы научной конференции: ред. В. А. Коршунков. – Киров, 2002. – С. 92–95. – Текст: непосредственный.
- Словарь русских писателей XVIII века. – Санкт-Петербург: Институт русской литературы (Пушкинский Дом), 2010. – Вып. 3. – 430 с. – Текст: непосредственный.
- Тимковский, И. Ф. Записки Ильи Федоровича Тимковского. Мое определение в службу. Сказание в трех частях / И. Ф. Тимковский // Русский архив, издаваемый Петром Бартеневым. Тетрадь пятая. – Санкт-Петербург, 1874. – 160 с. – Текст: непосредственный.
- Тимковский, И. Ф. Памятник Ивану Ивановичу Шувалову, основателю и первому куратору Императорского Московского университета / И. Ф. Тимковский // Москвитянин. – Часть III. – Москва, 1851. – № 9. – С. 40–52. – Текст: непосредственный.
- Тимковский, И. Ф. Пять лет / И. Ф. Тимковский // Москвитянин. – № 6. – Кн. вторая. – 1855. – Текст: непосредственный.
- Ушинский, К. Д. Воспоминания об обучении в Новгород-Северской гимназии / К. Д. Ушинский // Педагогические сочинения: в 6 томах. – Т. 1. / Сост. С. Ф. Егоров. – Москва: Педагогика, 1988. – С. 309–316. – Текст: непосредственный.
- Чалый, М. К. Воспоминания / М. К. Чалый // «Киевская старина». – 1889. – № 4. – С. 87–88; № 5–6. – С. 326–328. – Текст: непосредственный.
- Шугуров, Н. В. Илья Федорович Тимковский, педагог прошлого времени / Н. В. Шугуров // Киевская старина. – 1891. – № 8. – Текст: непосредственный. – 240 с.