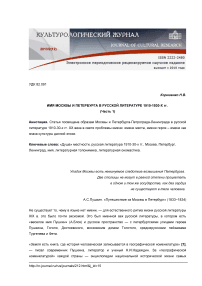Имя Москвы и Петербурга в русской литературе 1910-1930-х гг. (часть 1)
Автор: Корниенко Наталья Васильевна
Журнал: Культурологический журнал @cr-journal
Рубрика: Гуманитарные исследования
Статья в выпуске: 2 (12), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена образам Москвы и Петербурга-Петрограда-Ленинграда в русской литературе 1910-30-х гг. XX века в свете проблемы имени: имени места, имени героя - имени как знака культуры данной эпохи.
Короткий адрес: https://sciup.org/170174300
IDR: 170174300
Текст научной статьи Имя Москвы и Петербурга в русской литературе 1910-1930-х гг. (часть 1)
Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга.
Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человека.
А.С.Пушкин. «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833–1834)
Не существует то, чему в языке нет имени, — для естественного ритма жизни русской литературы XIX в. это было почти аксиомой. Это был именной век русской литературы, в котором есть «веселое имя Пушкин» (А.Блок) и русское пространство — с петербургскими улицами героев Пушкина, Гоголя, Достоевского, московским домом Толстого, среднерусскими пейзажами Тургенева и Фета.
«Земля есть книга, где история человеческая записывается в географической номенклатуре» [1], — писал современник Пушкина, литератор и ученый Н.И.Надеждин. За «географической номенклатурой» каждой страны — энциклопедии национальной исторической жизни самых разных пластов содержания: религиозного, сословного, государственного, героического. Лирика пейзажа, что так отличает русскую литературу XIX в. даже в сравнении с также великим веком западно-европейской литературы, «метит» пейзажем одну из основ устойчивости человека в мире, что не позволяет «разойтись» в противоположные стороны познанию и бытию и формует ту «диалектику души» человека, что способна открывать в окружающем времени-пространстве, в пейзажах России онтологический и исторический смысл существования, память прошлого и знамения грядущего, те сокровенные смыслы, что получал русский человек при крещении. «Вписывание в события природы» [2], — отмечал философ и лингвист Н.С.Трубецкой,— одна из констант эстетического феномена русской литературы, восходящая к древнерусской литературе. Уже в литературе начала века обозначаются процессы распыления духовного, именного стержня русской культуры и жизни: орнаментально-романтический, открыто-аллегорический, во многом стилизованный пейзаж в прозе Андреева, Горького, Белого, Замятина, Сологуба, Ремизова (чеховский и бунинский поиск в области дальнейшего освоения философии и новых пространств «пейзажа» отчетливо в начале века помечается признаками «традиционного»), мнимое («Балаганчик» А.Блока) или сдвинувшееся со своей орбиты петербургское пространство, утратившее свой устойчивый центр (скачущий по улицам города Медный всадник в «Петербурге» А.Белого); знаковая для эпохи андреевская драма «Человек», так и не переросшая в трагедию, ибо в ней есть человек вообще, но нет живого человека, ибо человек этот без имени. В травестированной библии, созданной Маяковским в поэме «Человек» (1916), делается попытка преодолеть коллизию андреевской драмы: человеку Маяковский дает собственное имя (Владимир Маяковский) и возводит его в центр вселенной (главы: «Рождество Маяковского», «Жизнь Маяковского», «Страсти Маяковского», «Вознесение Маяковского»). Однако результатом данного эксперимента все-таки остается Голгофа страдания без искупления и воскрешения, и к этой ситуации поэмы «Человек» Маяковский будет возвращаться до конца жизни.
С началом века набирает обороты псевдонимия в писательской среде, она в буквальном смысле захлестнет поле русской литературы послереволюционного времени. Так, в членский билет Всероссийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП) была введена графа «Псевдоним» [3] , а среди реальных псевдонимов пролетарских писателей 20-х гг. в архиве ВАПП сохранились экзотические «имена», предвосхищающие появление булгаковского Ивана Бездомного — Григорий Бездольный (настоящая фамилия Н.Обиденко), Дерзнувший (настоящая фамилия А.Афиногенова) [4] . Смена имени порождала и другие явления самозванства, позже описанные А. Платоновым в «Чевенгуре». Так, один из пролетарских писателей в графе «национальность» записал: «Р.С.Ф.С.Р.» [5] .
После 1917 года языковые утраты в сфере имени приобретут массовый характер [6]. В 20-е гг. будут созданы сотни новых имен, логика и конструкция которых отсылает к литературным играм начала века, прежде всего, к мифотворчеству футуристов 10-х гг. Модель этого мифотворчества прочитывается в «пути» лирического героя Маяковского 10–20-х гг. От «шири бездомного» («Человек»), где даже вещи отказываются от прежнего облика («Кинулись, раздирая голос, скидывать лохмотья изношенных имен», «Владимир Маяковский») и пафоса «нового слова» как первообраза мира («Они придут и будут детей крестить именами моих стихов») пролегает путь к «царству моему небесному» (Мистерия-буфф», 1918). Это путь онтологического отрицания: «Взорвите все, что чтили и чтут. И она, обетованная, окажется под боком — вот тут». Правда, та же «мистерия» рассказывает о вакууме нового языка, отсутствии в нем ценного духовного центра, что вдруг вскользь прорывается в вечном для Маяковского «не могу», теперь уже не в диалоге с Богом, а с новым языком:
Не могу! Такая косноязычь!
Если вспомнить, что для русской философско-художественной традиции слово космично в своем естестве, потому что через него говорит само бытие, то вот как выглядит это бытие, земля «обетованная», карнавал псевдонимии, в реальной массовой жизни 20-х годов: «Еще недавно рабочая молодежь на улицах и площадях сжигала изображения и куклы богов: святых всех стран и народов. Теперь, перейдя к более углубленным методам антирелигиозной пропаганды, она сжигает свое религиозное прошлое. И вот каким образом: например, в Иваново-Вознесенске на рождественских праздниках стали перекрещиваться: Степанова Нина — Нинель, Широкая Мария — Октябрина, Демидов Петр — Лев Троцкий, Марков Федор — Ким, Смолин Николай — Марат Тендро, Гусев Павел — Лев Красный, Клубышев Николай — Рим Пролетарский, Уваров Федор — Виль Радек, Челышев Иван — Лев Красный.
Не только комсомольцы и партийцы “перекрещиваются”, но нет отбоя и от беспартийных. — Товарищ, прошу меня перекрестить.
— Фамилия?
— Дворянкин, беспартийный.
— Как хочешь называться?
— Красный боец.
Их много теперь, этих беспартийных “Коммунаров Калыгиных”» [7] .
Это не художественная выдумка в духе будущего платоновского «Чевенгура» (1927—1928), а небольшая статья «Комсомольское рождество» из газеты «Известия» (1924, 8 января), положенная П.Флоренским в папку с материалами для книги «Имена».
В словаре «Русских личных имен», вышедшем в 1995 г., мы находим имена с этимологической справкой, «включающей сведения о языке-источнике и первоначальном значении личного имени» [8]: «Вилена... В(ладимир) И(льич) Лен(ин)» [9]; «Ноябрина... (нов.) (от нариц. сущ. ноябрь в честь Великой Октябрьской социалистической революции)» [10], «Октябрина... нов. (от нариц. сущ. октябрь, в честь Великой Октябрьской социалистической революции)» [11]. Единственное, чего нет в статьях к этим именам, так это раздела с указанием дней Ангела и святых, имеющих отношение к имени. Но являются ли эти имена русскими? — на этот вопрос словарь не дает ответа. Однако образование и этих имен имеет более чем конкретную почву и свидетельствует о подчеркнутом отречении от традиции именования в русской культуре. То, что процесс именования носит случайный характер и подчинен не традиции, а самым разным внешним факторам теперь уже масскультуры (популярные артисты, героини кинофильмов), показывает статистика «Списка имен, которыми называли новорожденных детей в Смоленской области с 1989 по 1992 годы»: Октябрину, Вилену и Камо значительно потеснили Жан, Марсель, Фабрицио, Анжелика, Диана, Жаклина [12].
«...Существующие имена суть некоторый наиболее устойчивый факт культуры и важнейший из ее устоев» — писал о. П.Флоренский в книге «Имена», называя отвлеченную возможность придумывания имен «дерзкой затеей», богоборческой по своей сути, пронизанной величайшим дерзновением расширить «не расширяемое» для культуры, если она не изменяет своей духовной сути. А если таковое произойдет (книга «Имена» писались во время беспрецедентной антирелигиозной государственной кампании 20-х гг. и борьбы с «русским стилем» в культуре), то, резюмировал Флоренский, мы получим уже иную культуру: «Каждый такой номер есть потрясение мировых основ, и каждое вновь явленное имя переворачивает недра культуры и начинает некоторую новую линию исторической типологии» [13] . Как отреагировала литература на эту возможность «новой линии исторической типологии» национальной жизни — вопрос не из простых.
В цикле рассказов Л.Добычина «Встречи с Лиз» (1924–1926), пожалуй, впервые в русской литературе будет обозначена ситуация переименования как некий энергетический полюс абсурдной логики повествования о современной жизни, отмеченной пустотой смысла. Герои рассказов постоянно помнят, что стоит в прежней жизни за школой Карла Либкнехта и Розы Люксембург («Козлова»), за садом Карла Маркса и Фридриха Энгельса («Встречи с Лиз»), за самим выражением «музыка играла “Интернационал”» («Козлова»). Разрушенный быт фиксируется Добычиным простой назывной конструкцией вне всякой рефлексии: какая рефлексия, если вместе с именем утрачены индивидуальность и уникальность, само лицо человека. Здесь каждый абзац — это разные, не связанные друг с другом, пространства, единственная их связь — в спутанности разных значений, утрате смысловой временной перспективы:
Наслаждались погодой и пили лимонад.
Ерыгин поклонился.
По заросшей ромашками улице медленно брели епископ в парусиновом халате и бархатной шапочке и Кукуиха с парчовой кофтой в руке:
– Клеопатра — русская имя?
– Да.
– А Виктория?
(«Ерыгин»)
В 1927 г. Горький в экспозиции романа «Жизнь Клима Самгина» словом «оригинальное» назовет ту традицию выдумывания в именовании, что сложилась на рубеже века в среде демократической интеллигенции. С «выдумывания» оригинального имени маленькому Самгину начинается жизненный путь заглавного героя романа. Мотив выдумывания, наиболее напряженный и разветвленный, всегда сополагается в жизни Клима Самгина с тем страхом реальной жизни, что сопровождает всю жизнь героя, принявшего в качестве нормы взгляд на действительность как мир фикций. В этом смысле Самгин литературный герой начала века, но не писатель. Самгин отчаянно хочет быть деятелем культуры слова, о чем свидетельствуют замыслы его книг и поиски жанра. Но горе в том, что «выдумать» оригинальный текст (от романа до религиознофилософского трактата) Самгин так и не смог: ненаписанные произведения Самгина входят в большую тему русской литературы 20—30-х гг., помеченную проблематикой имени, биографии человека в XX веке и «кризиса авторства». В зафиксированных названиях задуманных книг Клима Самгина — «Русская жизнь и литература в их отношениях к разуму», «Искусство и интеллект», «Русское искусство и интеллект», «Гоголь, Достоевский, Толстой в их отношении к разуму» — кристаллизуется тот водораздел, что пролегает между языком русской литературы XIX и XX веков, духовной вертикалью русского романа XIX века и «хроникой» обстоятельств, потолок которой не могут преодолеть герои практически всех «повестей» Горького, начиная с «Фомы Гордеева» и кончая главным героем повести «Жизнь Клима Самгина».
Для русской литературы обоих потоков к поискам «утраченного времени» реальность революционная добавила и поиски утраченного пространства России, оказавшегося в не менее драматическом положении, чем имя.
Работая в 1922 г. над книгой «Имена», о. П.Флоренский полностью переносит в рукопись «статейку из современной газеты»: «...Главкократия превратила заводы в номера и думала, что этим можно ограничиться. Все попытки победить, переименовать заводы и фабрики на советский лад разбивались о высокомерие и непонимание психологической и даже политической стороны этого дела. Это все равно, как если бы мы в армии сохранили полки имени великого князя или Герцога Ольденбургского и проч. и проч. Пора дать, наконец, заводам и фабрикам советские имена. Наряду с именами вношу предложение:
-
1) предложить заводоуправлениям, по соглашению с завкомами, представить на общее собрание заводов несколько названий на окончательное голосование самой массы;
-
2) окончательное утверждение названия принадлежит Московскому Совету;
-
3) вся эта работа переименований должна завершиться до 5-й Октябрьской годовщины;
-
4) празднование имени заводов и фабрик приурочить ко дню Октябрьской годовщины;
-
5) строжайше воспретить, после определенного срока, называть заводы в официальных
документах, заявлениях, речах, статьях и проч.— именами бывших владельцев.
Член Московского Совета Л.Троцкий» [14] .
Флоренский выбрал потрясающе многозначный текст: традиция готова забыть себя (взять западный тип — № вместо имени, модель, воспроизведенная в «Мы» Замятина), но не превратиться в иллюзорно мнимую, ибо за именем стоят заветные чувства и люди (создатели заводов, воины-герои русской жизни), за именем стоит благоговение и предание. Переименование пространства России начинается с 1917 г. и наиболее активно проводится именно в 20-е гг. Тотально искореняется память об императорском периоде России и романовской династии (Романово — Ленино, С.-Петербург — Петроград — Ленинград), равно дворянстве и «лапотной России», религиозных преданиях и святых местах. Новая география не щадит и поэтические названия: так село Бобрики, названное по речке Бобрик, близ которой жили бобры, превращается в Новомосковск, Затишье — в Электросталь; исчезают святые для русского сознания «белый цвет» и «береза»: Белый Ключ — Красный Ключ, Березовое — Приморск, Берестовица – Пограничный. Особым богатством мифология новой географии в 20—30-е гг. не отличалась. Так, лишь одна Свердловская волость в Клинском уезде имела в своем составе Марксовский и Ленинский сельсоветы с деревнями Карл Маркс, им. Троцкого, Зиновьево, Ленино [15] .
В статье 1926 г. «Три столицы» Г.Федотов опишет три культурноименных центра пространства России: Петербург, Москву и Киев. В истории России за каждым из этих центров стоит своя философия жизни и свое «слово России» [16] : за Петербургом, с его аскетическим «отречением от всех святынь: народа, России, Бога»,— гений покаяния Достоевского, за неизбывной любовью России к Москве — гений Л.Толстого, художественно осмыслившего роль и призвание Москвы; за Киевом — «идея Киева» как полюс православного духа России, запечатленная в храмах и фресках и невыраженная в русской литературе. «Западнический соблазн Петербурга и азиатский соблазн Москвы — два неизбежных срыва России», отмечал Федотов, преодолевался в истории России лишь живым национальным духом, откристаллизовавшим в эпоху киевской Руси русскую идею как идею всемирную, классическую и ее форму: «...здесь все полно завершенным покоем, достигнутой мерой, свободой в законе, бесконечностью, замкнутой в круг» [17] .
Речь у Федотова идет именно о духовно-культурном содержании центров России. К середине 20-х гг., когда писалась эта статья, Москва не только стала центром нового государства (СССР), но и приняла, по мнению Федотова, «наследие освобожденного Петербурга» [18] . В статье «Русский человек» эту идею возврата имперской идеи Г.Федотов соотнесет с идеей национальной, обнаружив в сюжете возвращения одну из «постоянных» исторического и культурного развития России,— разрыв и отрицание «дела отцов»: «Перенесение столицы назад в Москву есть акт символический. Революция не погубила русского национального типа, но страшно обеднила и искалечила его» [19] .
Итак, новый культурно-исторический центр и человек. Для большой русской литературы со всем трагизмом встал старый вопрос: можно ли на этом пути создать органическую культуру, где находятся источники питания культуры мысли и чувства, жизни и творчества.
Амплитуду напряжения петербургского центра русской литературы можно обозначить двумя тезисами:
-
1. «Дряхлеющий, зарастающий травой, лишенный имени Петербург...» (Г.Федотов, 1926).
-
2. «Петербург — самое высокое, роковое и заветное слово русской литературы. И если вынуть из нее это слово, она потускнеет, потеряет свои “бездонные провалы в вечность” (слова А.Блока)» (К.Мочульский, 1946).
В 1922 г. в Петрограде выходит книга Н.Анциферова «Душа Петербурга» (Пг., 1922). Последовавшие за «Душой Петербурга» «Петербург Достоевского» (1923) и «Быль и миф Петербурга» (1924) представили единственную в своей уникальности энциклопедию языка Петербурга как центра Российской империи и русской литературы (от Державина до символистов и футуристов).
«Городские названия — язык города. Они расскажут о его топографии, о его окрестностях, истории, героях, промышленности, идеях, вкусах, юморе. Они так же определяют стиль города, как его строения, его легенды, его сады» [20] ,— писал автор «Души Петербурга». У Петербурга — «города трагического империализма» [21] — есть своя душа, свой язык и художники, создавшие его миф,— и все это отразилось и в топонимике города, как и сама она вошла в язык русской литературы, а ее строгость, соразмерность и ясная точность была как метафилософия учтена в оформлении аналитической сущности русского литературного языка, одного из явлений и порождений петербургского периода русской истории: «Что же дают нам названия Петербурга? Ничего яркого, особенно выразительного мы в них не найдем. И разве это не характеризует его, разве это не к лицу строгому и сдержанному городу? Его имена либо топографические: Невский, Каменноостровский, либо ремесленного происхождения: Литейный, Ружейная, Гребецкая, Барочная, и т.д., либо свойственные столицам, в честь дружественных наций: Итальянская, Английская, Французская, либо совершенно лишенные образности, наиболее характерные для Петербурга: Большие, Малые, Средние проспекты и бесчисленные линии и роты,— вытянутые в шеренгу и занумерованные» [22] .
Сентябрем 1919 г. и 12 марта 1922 г. помечены крохотные вставки Анциферова с вопросами к новым явлениям жизни Петербурга — они адресованы современной истории и русской литературе:
«Из пыли Марсова поля медленно вырастает памятник жертвам революции. Суждено ли ему стать пьедесталом новой жизни, или же он останется могильной плитой над прахом Петербурга, города трагического империализма?».
«Исчезают старые дома, помнившие еще Северную Пальмиру. На окраине, у Смоленского кладбища, воздвигнут новый, высокий дом, единственный во всем городе: Крематориум.
Петрополь — превращается в Некрополь.
Пройдут еще года и на очистившихся местах создадутся новые строения, и забьет ключом молодая жизнь. Начнется возрождение Петербурга. Петербургу не быть пусту.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год,—
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна» [23] .
В вышедшем в 1991 г. приложении к репринтному воспроизведению книг Н. Анциферова о Петербурге приводится «Список переименованных топонимов Петербурга», указанных и описанных Анциферовым как один из важных смысловых элементов петербургского текста: около 100 переименований, о логике которых мы писали выше. Лишь несколько примеров: «Александровский парк — парк Ленина»; «Вознесенский проспект — проспект Майорова»; «Благовещенская площадь — площадь Труда», «Дворянская Большая улица — улица Куйбышева», «Мещанская Большая улица — улица Плеханова»; «Мещанская Малая улица — Казначейская ул.»; «Мещанская Средняя улица — улица Халтурина»; «Садовая улица — Улица Революции»; «Семеновский плац — Пионерская улица»; «Сенатская площадь (площадь императора Петра Великого) — площадь Декабристов» и т.д. [24] .
Если «городские названия определяют стиль города, являются его языком» [25] , то их уничтожение не могло не вызвать колоссального всплеска в литературе 20-х гг. петербургских тем и сюжетов, предельно заостривших эсхатологические константы петербургского текста и прежде всего мотив исчезновения города, восходящий к традиционному мотиву возмездия в петербургском мифе («Петербургу быть пусту»). Назовем лишь некоторые произведения-вехи в огромном массиве петербургской литературы: петербургские циклы рассказов Е.Замятина («Дракон», 1920; «Мамай», 1921; «Пещера», 1922), откристаллизовавшие в разных модификациях идею смерти города и человека [26] ; мистические петербургские рассказы А. Грина («Крысолов», 1924; «Фанданго», 1927), петербургский роман А.Толстого «Хождение по мукам» (1923), сатирическая антиутопия «Ленинград» (1925) М. Козырева, акцентирующая петербургскую традицию фантастики в самом исчезновении имени Петербурга. Перефразируя героя повести М. Козырева, можно сказать, что русская литература «с изумлением» отнеслась к появлению нового имени Петербурга — Ленинград: «Какой это город? — Ленинград. Этот ответ изумил меня. Я напряг всю свою память, но не мог вспомнить такого города ни в России, ни за границей».
Список литературы Имя Москвы и Петербурга в русской литературе 1910-1930-х гг. (часть 1)
- Цит. по: Поспелов Е.М. Имена городов. Вчера и сегодня. - М.: 1993. - С. 5.
- Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. - М.: 1995. - С. 575.
- РГАЛИ. Ф. 1638. Оп. 1. Ед. хр. 83. Л. 35.
- РГАЛИ. Ф. 1638. Оп. 1. Ед. хр. 83. Л. 25. Ед. хр. 12. Л. 3-9.
- РГАЛИ. Ф. 1638. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 9. См.: Масанов Ф. Словарь псевдонимов русских писателей и общественных деятелей. Т. 1—4. - М., 1960.
- См.: ДелертД. Новые имена. - 1924.
- Флоренский П. Имена. - М.: 1993. - С. 267-268.
- Тихонов А.Н., Бояринова Л.З., Рыжикова А.Г. Словарь русских личных имен. - М.: 1996. - С.З.
- Там же. С. 445.
- Там же. С. 584.
- Там же. С. 586.
- Там же.
- Флоренский П. Указ. соч. С. 81
- Там же.
- См.: Поспелов Е.М. Указ. соч.
- Цит. по: Федотов Г.П. Лицо России. - Paris, 1967. - С. 53.
- Там же. С. 68
- Там же.
- Цит. по: Федотов Г. Новый град. - NY., 1952. - С. 87.
- Цит. по: Анциферов Н. Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Быль и миф Петербурга. Репринт. воспроизв. изд. 1922, 1923, 1924 гг. - М., 1991. - С. 41.
- Там же. С. 27.
- Там же. С. 41.
- Там же. С. 223—224. Цитировано стихотворение В. Ходасевича «Путем зерна» (1917), открывающее одноименную книгу стихов «Путем зерна».
- Анциферов Н. Указ. соч. С. 96—97. Процесс обратного переименования топонимики Ленинграда в Петербургскую, начатый с конца 80-х годов, уже стал сюжетом романа М. Кураева «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург» (1996).
- Там же. С. 34.
- Гоигорьева Л.П. Константы петербургского текста в прозе 20-х годов // Петербургский текст. -СПб.: 1996. - С. 102.
- См.: Горный С. Санкт-Петербург (Видения) // Петербургский текст. С. 150-192.
- Там же. С. 99.
- Иванов Г. Собр. соч. в 3 т. - М.: 1994. - Т. 3. - С. 638. [30] Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. - М.:1996. - С. 198.