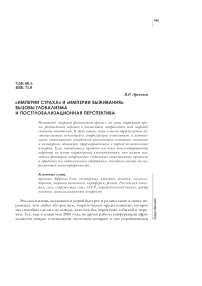«Империи страха» и «Империи выживания»: вызовы глобализма и постглобализационная перспектива
Автор: Арсеньев Владимир Романович
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Осмысление ноосферы
Статья в выпуске: 4 (9), 2008 года.
Бесплатный доступ
Нынешний «мировой финансовый кризис», по сути, выражает пролог радикальных перемен в дальнейшем направлении всей мировой системы отношений. В этих новых, хотя и давно предсказуемых обстоятельствах меняющейся конфигурации геополитики и геоэкономики, относительно устойчивой реальностью остаются языковые и культурные общности, сформировавшиеся в период колониальных империй. Если попытаться придать им более консолидированный характер на основе партнерского взаимодействия, это может оказаться фактором оздоровления глобальных общественных процессов и придания им оптимального содержания, способного увести от нарастающей катастрофичности.
Архаика, африка, блок, государствоимперия, колония, империя, мегагосударство, мировая экономика, периферия, регион, российская империя, сила, содружество, союз, ссср, стратегический баланс, центр влияния, цивилизационный конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/14031044
IDR: 14031044 | УДК: 60.5
Текст научной статьи «Империи страха» и «Империи выживания»: вызовы глобализма и постглобализационная перспектива
Среда обитания
Реальная жизнь оказывается порой быстрее и радикальнее в своих переменах, чем любое абстрактное, теоретическое предположение, которое мы способны сделать по поводу, казалось бы, вероятных событий и перемен. Так, еще в конце мая 2008 года, во время работы конференции африканистов, вопрос о возможном частичном возврате к уже опробованным в мировой исторической практике моделям звучал как несколько схоластический, умозрительный и даже как фантазийный, как лишенный каких бы то ни было оснований. Но вот наступил месяц август. И вспыхнувшие резким обострением противоречия на Кавказе привели к совершенно очевидной «материализации», конкретной воплощенности цивилизационного конфликта по линии исторически хорошо известного разлома «Восток– Запад». Относительная геополитическая стабильность переместилась из одной воплощенной формы равновесия к возможности новой конфигурации глобальных стратегических балансов.
Но, таких ли «новых», а если и «новых», то в чем, и по отношению к чему, к какому принимаемому за эталонное состояние конкретного общества, региона, глобальной геостратегической реальности! Можно задаться и вопросом, в какой степени предшествовавшее относительное равновесие выступало как устойчивое, долгосрочное. В какой мере оно отражало глубинные предпосылки и сущности тех или иных конфигураций геоэкономики, геополитики, выступающих в качестве сложившихся констант, действенность которых весьма незначительно вариативна при сохранении преимущественного проявления внутренних для данных сообществ, массивов культур и соответствующих им пространственно выраженных социальных форм. Речь при этом должна идти об обществах, государствах, культурно-языковых сообществах, странах, исторических областях и регионах и т.п.
Terra Humana
Скажем, применительно к нынешней России и ко всему постсоветскому пространству в целом, скорее всего, неправомерно игнорировать и непосредственно сопряженный географический, исторический и культурно определенный субстрат, связанный с Российской империей, да и, в целом, систематически подтверждаемое на протяжении не менее тысячелетия, для нынешних насельников региона, общее евразийское пространство. Оно особо заметно напоминает о себе как о геокультурном субстрате, гео-культурной реальности в периоды кризисов органического и организованного единства этого пространства. То есть того пространства, которое соответствует эпохам существования очевидно и отчетливо выраженных субконтинентальных «империй», «союзов», «содружеств», образующих более или менее выраженные геостратегические общности. По этому поводу уместно вспомнить ставшую роковой для общности евразийского пространства новейшего времени сентенцию из Акта, подписанного в Бе-ловежье в декабре 1991 года: «СССР прекращает свое существование как единое геополитическое пространство». Если принять во внимание, что на тот момент под понятием «геополитика» понималась вся совокупность общественных феноменов в их целостном органическом единстве применительно к географической определенности, что это было практически тождественно понятиям «государство», «союз государств» в рамках единого географического пространства и с единой по целям и пространственно географической направленностью политикой, то получалось, что эта формулировка содержала либо своеобразную тавтологию, либо ненужную, избыточную детализацию для относительно частного вопроса в рамках масштабного, в целом, обобщения и утверждения. Был ли это случайный сбой формальной логики или недопонимание сути утверждения, либо это была пустая словесная «красивость», фигура речи, сегодня утверждать сложно. Но для того времени, для того этапа актуализации и иерархии, таксономии понятий это был «приговор» не только СССР или «исторической России» во всех известных ее формах (в том числе и тех, которые исторически известны, когда и самого понятия «Россия» еще не существовало). Это оказывалась политическая декларация, объявляющая распад евразийского геоисторического континуума, признание потери им целостности и открытости его для любых внешних и внутренних сил к реструктурированию, к перекройке и, в частности, к присоединению отдельных частей былой целостности к иным «геополитическим» (в понимании того времени) реалиям.
И вот как раз действия РФ на Кавказе в августе–сентябре 2008 года, а также реакция на них как в пространстве несуществующего, вроде бы, СССР, так и в странах Евросоюза и НАТО, а равно и, в целом, в мировом сообществе показали, что «пространство СССР» продолжает выступать, в положительном или в отрицательном к этому отношении, как вполне действенная реальность. И это не только унаследованное недавнее историческое прошлое, от которого невозможно отказаться, как бы того ни хотелось, но и вполне возможное будущее. И именно отношение к нему со стороны различных социальных групп как к вероятностно грядущему показывает разброс мнений, полярность оценок. А пресловутая «открытость вовне» для возможных реконфигураций этого пространства и оказывается решающей предпосылкой для внешнего влияния на происходящие в этом пространстве события и процессы. И таким образом заинтересованность этих внешних сил оказывается зачастую главным действенным фактором направленности реконфигураций и реструктуризаций, растаскивания фрагментов единого исторического пространства по другим сопредельным пространствам, с альтернативными центрами влияния, а, соответственно, и с чуждыми и враждебными прежней общности интересами.
И при том, что естественным в новой и новейшей истории стержнем организации евразийского пространства может выступать только Россия, при условии удержания ею хотя бы нынешних границ, массы и качества популяции, именно против РФ и направлены основные усилия противников консолидации Евразии. И именно этими противниками формулируется перспектива восстановления СССР как угроза, как вероятность восстановления системы глобального биполярного противостояния и балансирования на грани войны.
Среда обитания
Однако реальное положение дел таково, что ни «однополярный», ни «двухполюсный» варианты геополитического и геостратегического равновесия не проявляют более своей казавшейся ранее перспективности и адекватности для выполнения задач удержания стабильности мировых отношений. Хотя, в какой-то степени, можно предположить на более или менее протяженную перспективу некоторый потенциал воспроизводства «восточно-западной» парадигмы. Но уж, по крайней мере, сейчас, после нынешнего «кавказского виража» глобальной политики, тот же геополитический разлом «Север–Юг», видевшийся еще в 1991 году основой организации человеческого взаимодействия и структурой консолидации его основных блоков, а также предпосылкой исторически неизбежных противоречий, с очевидностью отходит в сферу второстепенных и даже вторичных процессов и перспектив.
Следует еще раз подчеркнуть, что весьма важной вехой, обозначившейся в прямом взаимодействии конфликтующих сторон в ходе августовских 2008 года событий на Кавказе и вокруг них, выступает вновь проявляющаяся субстратная база «большого евразийского пространства», совпадающего в основных блоках с исторически известными пространствами Российской империи и СССР. Именно в этих пределах, в первую очередь, происходил поиск этими сторонами глобальной и региональной поддержки. Равно следует отметить, что в прямом соответствии результатам этих поисков, а также и в значительном согласии с исторически сложившимся культурно-историческим конфигурациям проявилась очевидная готовность постсоветского геостратегического пространства к консолидации, как ситуационной, так и фундаментальной. Манифестация реакций среды показала это пространство не столько как декларативное, сколько как глубинно значимое и сущностно мотивированное. И о нем, соответственно, можно говорить, если не как о единстве, то, по крайней мере, как о подобии, совокупности, множестве по совпадающему или подобному основанию. Можно также утверждать, что следствием последних событий в мировой политике, стратегии, геополитических «раскладах» явится глобальная или, как минимум, европейская реструктурализация действующих и перспективных реалий – и геополитики, и геоэкономики, и геокуль-турных, цивилизационных феноменов.
Terra Humana
Глобальные и фундаментальные перемены, происходящие в стратегии мировых отношений, заставляют пересмотреть устоявшиеся взгляды на феномен «империй» как крупных и сверхкрупных гетерогенных социальных, культурных, экономических, организационных, управленческих образований, в формировании и воспроизводстве которых лишь на начальных этапах немалое значение имела сила, в частности, сила военная. Аксиологически «империи» принято рассматривать в негативных оценках. Однако даже в условиях глобализации, де факто, происходит все тот же процесс образования макросубъектов на гетерогенной основе ранее сложившихся структур и актеров мировых отношений. При этом и военная сила как реальность или потенция присутствует постоянно, даже если основной процесс реализуется в экономической, информационной или культурной сферах.
Можно, в частности, задаться вопросом, а возможно ли иначе? Знает ли человеческая история иные возможности формирования мегапространств реализации жизневоспроизводства? Разве любые – культурные, языковые, экономические, популяционные процессы, вопросы управления, формирования идеологических и конфессиональных сообществ цивилизационного этапа человеческой истории вплоть до новейшего времени возникали и поддерживались без насилия, без утверждения гегемонии одного социума, одного общества, одной культуры по отношению к другим, включаемым в расширяющуюся общность? Разве не было конкуренции этих общностей через постоянное прибегание к силе – и в Древнем мире, и в Средние века, и в Новое, и в Новейшее время? И разве глобализационный процесс не есть такое же постоянно действующее насилие, реализуемое, в видимом плане, экономическими рычагами – финансами, энергетической, продовольственной, водной и иными формами зависимости, а, по сути, формирующее такие же иерархические пространственные и отраслевые структуры на гетерогенной основе? И это – так, даже если внешне они напоминают плоские «сетевые» образования, лишенные бросающейся в глаза подчиненности одних другим и отличающиеся видимостью рассредоточенности центров управления и влияния. Сегодня, в условиях мирового рынка, которому приписывается именно такая «сетевая» организация, видно, что капиталы не спасаются простым перетеканием из зоны риска в зону подъема, что не происходит автоматическое «латание прорех» в этой «ткани», а с ним – и самовосстановление «узлов» в местах разрывов «сети».
Центры влияния были, есть и будут существовать. И даже если одни из них будут ослабевать, не справляясь с обеспечением необходимого напряжения возникающего вокруг них «поля», то это, само по себе, ничего не меняет в самом принципе организации и самоорганизации мирового общественного процесса. И так проистекает с того времени, как деньги превратились в организующую силу, энергию экономического, политического и иных форм общественного процесса – в самой конкуренции этих форм, как и в конкуренции общностей, обладающих относительной целостностью, единством системы воспроизводства жизни.
Не является ли «объединенная Европа» – Евросоюз – таким же вариантом общественного образования, порожденного наличием конкурентной и даже угрожающей силы вовне образующих его стран. А сами эти страны сталкиваются с необходимостью создания силового противовеса внешнему насилию. К этому надо добавить вполне вероятный прямой или предопределенный общими обстоятельствами сговор элит этих стран в интересах поддержания своего статуса, а также и информационное насилие по отношению к собственному населению в плане пропаганды интеграции, вплоть до самоограничения суверенитетов. И непременно надо упомянуть навязывание населению некоего суррогата культуры, именуемой «общеевропейской», а с нею и обязательного двуязычия, в котором родной язык оказывается более или менее факультативным, но вот без английского – уже делать просто нечего. И к числу весьма значимых надо отнести сложение властной надгосударственной страты, становящейся «квази-супергосударс-твенной». Она, именуемая «евробюрократией», уже имеет свои корпоративные интересы и становится «квази-классом», «квази-гегемоном» процессов
Среда обитания
в формирующейся «Европе». К началу XXI-го века эта «Европа», задуманная как альтернатива НАТО и противовес его лидеру – США, – внутри самого НАТО, оказывается полностью под пятой этого самого НАТО, под пятой США, в том числе, и из-за потери глобального стратегического соперника НАТО в лице СССР. Но по логике самоструктурирования раз сложившихся образований, хорошо известной в связи, например, с «законами Паркинсона», как и не исчезнувшая автоматически НАТО после распада Варшавского блока, «Европа» продолжает «совершенствоваться», обрастая атрибутами государства и «перемалывая» при этом образующие ее исторические государства, культуры, языки.
Чем это отличается от понятия «империя», если не подходить к нему эмоционально и аксиологически заданно. Ведь только Франция и Голландия сказали в 2005 году «нет» Конституции Евросоюза, превращавшей ее в мегагосударство. Только Ирландия проголосовала «против» компромиссного проекта усеченной конституции ЕС в 2008 году. Но суперстрата нового «квази-государства» навязывает завершение формализации юридического статуса ЕС. То есть процесс навязывания «консолидации» геоэкономических, геополитических пространств, с превращением их в системные геостратегические образования, по типу «союзов государств», на примере Европы, продолжается.
В связи с этим, признав тенденцию к образованию, а равно и распаду «имперских структур» как одну и постоянных величин исторического процесса, уместно задаться вопросом, образно говоря, а «стоит ли огород городить», «ломиться в открытую дверь» и «изобретать велосипед»? Ведь, если самовоспроизводство «имперских» по форме структур есть константа, если относительная устойчивость этих структур, скажем, на протяжении жизни двух-трех поколений, создает неизбежный отпечаток в культуре, в языке, в традициях экономических связей, в исторической памяти, в популяционной сфере, то зачем «резать и перекраивать по живому»? Зачем, осознанно или нет, создавать новые пространственные и популяционные конфигурации новых «империй», когда, опираясь на уже состоявшиеся массивы исторических связей, можно попытаться придать им новое наполнение, новое содержание, соответствующее и новым условиям, и новым интересам сторон, и новым формам взаимодействия?
Terra Humana
При этом следует уточнить, что закрепившийся в политической риторике ХХ-го века негативный оттенок понятия «империя» выступает реальностью аксиологического аспекта общественного сознания. Восходя к риторике «общедемократического» и, в частности, социал-демократического образа мировосприятия, во второй половине ХХ-го века это отрицательное содержание понятия «империя» получило акцентуацию в рамках либерального по форме дискурса, направленного против «тоталитарного режима» СССР. И именно СССР объявлялся «последней империей», а «империя» как форма организации общества – «окончательно изжившей себя и уходящей навсегда в историческое прошлое». Т.е. слово «империя» превратилось в слоган психологической войны, пропаганды. Этого нельзя игнорировать, обращаясь к понятию «империя» и говоря о перспективах воспроизводства соответствующего явления. Но также необходимо преодолевать эту аксиологическую заданность отношения к нему. Тем более, что, пусть даже с другим названием, иной маркировкой в языке, само явление воспроизводится и неизбежно будет воспроизводиться, если не как «государство», то как единая в организационном отношении система из разнородных элементов, например, в экономике. Таким образом, можно пытаться оптимизировть ход общественных процессов в конкретных обществах и «государствах», в общечеловеческом масштабе.
Однако и при такой постановке вопроса нельзя не помнить, что сама история, сама жизненная парадигма человеческого бытия – иррациональна. И любую навязываемую ей рациональность, организацию и организованность, целесообразность и целеположенность она или отвергнет, или неминуемо преобразует так, что прямое отождествление ее с задуманным приведет к расхождению с замыслом. Но это необходимо признать и принять априорно, заранее – как закон несоответствия отраженного и действительного.
И, соответственно, не пора ли признать феномен воспроизводства «империй» (как сложнокомпозитных систем, унифицирующихся и сорганизу-ющихся лишь по выборочным основаниям), отражающим историческую закономерность. И не время ли вместе с тем и осознать, что конструктивнее не подвергать осуждению соответствующие процессы, а создавать механизмы гармонизации внутренних и внешних аспектов их проявления, реализации и взаимодействия в мировом масштабе, снимая при этом агрессивную, абсорбирующую составляющую жизни подобных общественных форм, насильственную и ускоренную трансформацию, перекодировку стереотипов существования.
О некоторых уже состоявшихся конфигурациях в связи с реалиями Африки.
Постановка вопроса о возможности «реанимации» некоторых исторически уже проявивших себя принципов и форм взаимодействия народов Африки с внешним миром обусловлена целым рядом причин как теоретического, так и конкретно-научного и практического характера.
-
1) В числе таковых в концептуальном плане следует отметить назревшую необходимость отхода от линейно направленного и необратимого – векторного – видения исторического процесса, а также – осознание весьма поверхностных перемен в основах общественного процесса, несмотря на колониальную и постколониальную интеграцию в мировую систему отношений большинства бывших колоний как периферии, как вновь интегрированных «отсталых элементов» имперских структур. Традиционная составляющая культуры и жизни, в целом, сохранилась и продолжает воспроизводиться как база (фундамент) общественного процесса.
Среда обитания
-
2) На конкретно-научном уровне можно констатировать проявление многих форм организации общества и общественного отражения (в осознанных или нет проявлениях) – «институтов», восходящих к архаическим
этапам социо-, экономо-, политогенеза, а также эволюции картин мира. Они включены в этот процесс, структурируют его – в очевидной или в скрытой для непосвященного наблюдателя ипостаси. Сама парадигма, в рамках которой подобная устойчивость, преемственность возможна, определяется как фундаментальный, основополагающий синкретизм. При его действии и действенности смена или дополняемость форм не предполагает императивной динамики структур.
-
3) В плане практическом подобные подходы обуславливают присутствие в сфере саморазвития африканских обществ неизбежное тяготение к сложению своего рода «мембранных структур», т.е. форм взаимодействия с односторонней, ограниченной двусторонней или, вообще, близкой к нулевой проницаемостью. В этих случаях имитация взаимодействия выступает одной из функциональных задач структуры – средством выживания в условиях, оптимизирующее влияние на которые со стороны обществ Африки почти невозможно.
Поскольку данный текст имеет задачей скорее обозначить, выявить проблему, чем выражает намерение предложить немедленное разрешение ее, то можно представить некоторый план, порядок и аспекты рассмотрения проблемы частичного возврата к уже состоявшимся историческим сообществам, имевшим признанные черты «имперского» типа, распавшимся в силу изменившихся внешних и внутренних обстоятельств, но продолжающих сохраняться в латентных или субстратных формах.
И, хотя в основу рассмотрения положены африканские реалии, типологически и по основным функциональным моделям воспроизводства подобные схемы приложимы к иным регионам и к иным эпохам, т.к. отражают принципиальную схему взаимодействия «передового центра» и «отсталой периферии» любых стадиально-гетерогенных общественных систем, особенно если диапазон «гетерогенности» определяется единовременным включением в одну общую систему обществ, находящихся на развитых этапах цивилизационного развития, и обществ, фактически не преодолевших порог архаики.
К числу таких непременных составляющих развернутого подхода к обозначенной проблематике должны быть отнесены (в связи с бывшими колониями в Африке в их отношении к их бывшим метрополиям) следующие вопросы:
-
а) выживаемость традиционных систем в колониальное и постколониальное время;
-
б) проблемы «внешней» и «внутренней колонизации» в колониальное и постколониальное время;
Terra Humana
-
в) особенности структурных взаимодействий «колоний» и «метрополий» до и после деколонизации;
-
г) константы (устойчивые формы) общественного процесса в Африке и их обусловленность;
-
д) состоявшиеся и действующие «модернизирующие проекты» (колониальный, неоколониальный, «социалистический»);
-
е) прогностические возможности определения будущего хода исторического процесса в Африке и перспективы «параимперских» конструктов: «ФранкоАфрика», «G3» («ИБС», «БРИК», «ЧайноАфрика», «РуссоАф-рика» и т.п.).
В связи с общей заданностью проблематики этого сообщения, а также по поводу последнего, из упомянутых параметров рассмотрения, следует отметить, что идея возрождения в модифицированном виде «имперской модели», в частности, применительно к Африке может вызывать изначальное и резкое неприятие из-за видимого, но реально отсутствующего ретроградного призыва к возрождению колониальной системы. В этом отношении необходимо оговорить, что, безусловно, общественное мнение, особенно, в либеральных, а равно и в социал-демократических кругах развитых стран не готово взвешенно и позитивно рассматривать подобную перспективу. Уж слишком это противоречит базовому для мировоззренческих систем западных стран представлению об «однонаправленности» исторического процесса, известному как «монистический взгляд на историю». Еще менее готова к этому интеллектуальная и управленческая элита бывших колоний, как, впрочем, и значительная часть общественных низов, особенно городского населения. Уж слишком прочно некоторые идеологические клише периода обретения независимости в 1960-е годы укоренились в пропагандистской риторике, в школьных учебниках, в бытовой психологии «иждивенческого» подхода к бывшим метрополиям, «обязанным», как принято утверждать, «оплачивать исторические долги». Год назад такая «неподготовленность» африканских элит была ярко продемонстрирована реакцией на «дакарскую речь» президента Франции Н. Саркози, в ходе которой глава французского государства, хоть и признал колонизацию ошибкой, в то же время попытался дать взвешенную с исторической точки зрения оценку феномену французской колониальной империи. Такая позиция – непременная предпосылка для новых форм взаимодействия бывшей метрополии с бывшими колониями, в том числе и для создания новых ассоциированных систем Франции с африканскими государствами. А это одна из провозглашенных внешнеполитических целей нынешней французской администрации. Однако реакция на эту речь, подготовленную группой французских экспертов по африканским проблемам и приписываемую перу А. Гено, советника президента по африканским делам, как в Африке, так и во Франции восприняли неоднозначно. Для одних это был призыв к «новой колонизации», для других – неоправданные извинения за прошлое. Однако, если отвлечься от этого обстоятельства, надо сказать, что со стороны Франции это был верный и весьма смелый шаг подведения черты под уже состоявшимся прошлым и предложение нового партнерства с бывшими колониями.
Среда обитания
Однако опыт показывает, что период независимого существования бывших колоний после распада Восточного блока и СССР обернулся практически полной экономической, а как следствие политической зависимостью от стран Запада и вступающего с ним в конкуренцию «нового Востока» в лице КНР. В этих обстоятельствах преобразование бывших колониальных империй и их культурно-языковых пространств в консолидированные и ассоциированные пространства партнерских отношений с бывшими метрополиями могли бы создать и альтернативу западной глобализации, и основу для сохранения включенности Африки в мировой цивилизационный процесс с большими возможностями маневра, чем прямое взаимодействие с ТНК или культурно, исторически и лингвистически чуждыми актерами мировой политики.
Но для актуализации подобной перспективы необходим весьма важный поворот в принципах структурирования мирового общественного процесса. Правильно было бы говорить о некотором движении, как бы вспять по отношению к общепринятому в рамках позитивистского мировоззрения вектору динамики единонаправленного процесса, ассоциируемого с представлением об историческом прогрессе. Государство как системообразующая структура общественного процесса должно восстановить свою фундаментальную регулирующую роль, а не уходить из жизненно важных сфер, как то – экономика, здравоохранение, образование, оборона, сводя свои функции, в конечном счете, к социальному обеспечению и передавая рычаги определения стратегического курса ТНК и другим холдинговым системам.
Нынешние потрясения в экономике и финансах стран Запада как раз и свидетельствуют об исчерпанности возможностей самоустранения государства из общественной жизни и создают предпосылку для возрождения этого общественного института в его жизнеопределяющей значимости.
«Государство возвращается в экономику»
Terra Humana
В частности, это связано с завершением эры безоговорочной гегемонии США. Наступает новая эпоха мировых отношений. Еще не вполне ясны ее очертания. Но уже очевидно, что это, как минимум, система многополярного мира. А, соответственно, и система более сложной организации экономических пространств в масштабах земного шара. Не отменяя полностью глобализационный процесс, она приведет к диверсификации форм и возможностей существования народов и стран. Скорее всего, это будет система иной организации мировой экономики и, в частности, регионализации ее форм по принципам адаптации к конкретным условиям и повышения роли и доли натурального и, особенно, продовольственного компонента производства. В расчетных отношениях, в накоплении и в обороте, скорее всего, вновь повысится роль золота и других драгоценных металлов. Но почти с уверенностью можно сказать, что будет найдена форма пересчета и оборота соответствующих средств применительно к энергоносителям, продовольствию и питьевой воде. Т.е. речь идет о том, что в новой мировой финансовой системе произойдет не только диверсификация учетных ценностей, но и привязка их к задачам обеспечения непосредственного жизневоспроизводства людей – не во имя приращения массы денег, массы капитала, но для повышения жизненных возможностей людей.
Отчасти подобного рода высказывания соответствуют принципам Концепции устойчивого развития, декларированной в 1992 году в Рио-де-Жа- нейро. У этого процесса имеются вполне очевидные и весомые признаки. Отчасти, уже в новых условиях и, в частности, по следам банковского краха в США они упоминались в недавних интервью и публичных выступлениях российского руководства, а также в речах, произнесенных 23 сентября 2008 г. в ООН и двумя днями позже в Тулоне президентом Франции, выступающим ныне в качестве председателя Евросоюза. Они же, возможно, найдут свое продолжение и юридическое закрепление в рамках предлагаемых лидерами ведущих стран мира идей о необходимости нового мирового экономического порядка, который мог бы быть закреплен политически и юридически соответствующей международной конференцией.
Следует особо отметить в связи с перспективами дальнейших процессов речь Н. Саркози в Тулоне. Она воспринимается во французском общественном мнении не только как продолжение принципов политики генерала де Голля, но и как отказ от либеральных принципов управления экономикой. Она впервые за многие годы возвращает государство в качестве ведущей формы организации общественной жизни, ответственной перед гражданами за их материальное и социальное благополучие, за безопасность и порядок в стране и обществе. «Государство возвращается в экономику!», – произнес французский президент. И при этом добавил, что сам «капитализм требует реформирования». Понятно, что это – позиция периода системного кризиса жизни общества, причем не только Франции или Евросоюза. В перспективе высвечивается установление новой модели мировой экономики, а значит, и нового баланса сил на мировой арене, в частности, консолидация пребывавших в аморфном, рыхлом состоянии ранее распавшихся под давлением глобализации экономических, политических и культурных сообществ и государств. Следует, видимо, ожидать повышение роли реальных производителей средств жизнеобеспечения по отношению к производителям услуг и технологий или, по крайней мере, серьезной коррекции этого соотношения. Среди развитых же стран Запада, вероятно, следует ожидать как общую перспективу повышение роли национального государства. Наряду с новым ростом влияния национальных государств в европейских делах повысится и роль их субрегиональных объединений.
Однако параллельно с этим возникает и вероятность, и потребность консолидации бывших «империй». С прекращением или с ограничением безусловного влияния на мировой арене ТНК, с восстановлением координирующих и направляющих функций государств, в том числе и в экономике, возрастает как конкурентность самих государств, так и потребность слабых государств и национальных экономик в консолидации вокруг более сильных актеров мировых отношений. И в этом отношении, таковая консолидация бывших колоний вокруг бывших метрополий имеет свои преимущества для обеих сторон, если отношения строятся не на условиях диктата, а на партнерской основе, на принципах взаимной заинтересованности бывшей метрополии и бывшей колонии.
Среда обитания
Т.е. справедливо ставить вопрос о некой ассоциации принципиально нового типа, обеспечивающего реализацию таких воссоздаваемых сообществ не как «империй страха», «империй давления», «империй эксплуатации», но как «империй выживания», взаимной и сбалансированной заинтересованности. По сути, речь должна была бы идти на нынешнем этапе истории не о закрытых замкнутых на себя системах, «ощетинившихся» по отношению к внешней среде враждебностью и нетерпимостью. Напротив, такие «империи выживания» создавали бы лишь приоритетный режим для своих участников, поддерживали бы историческое, языковое и культурное единство, но при этом оставались бы открытыми для всех иных деятельных и конструктивных образований мирового процесса в рамках уже обозначенных приоритетов.
Если мир входит в полосу реструктуризации, если это будет сопровождаться сложностями ломки и замены прежней системы, то такое состояние не только продлится достаточно долго, но и потребует опоры, взаимной поддержки сторон. И в этих обстоятельствах, еще недавно устойчивые в течение жизни нескольких поколений культурно-языковые единства больших разнородных массивов стран и народов, с общими правовыми и управленческими традициями, с вольно или невольно, взаимно понятным менталитетом, сформировавшиеся как «империи», окажутся важным элементом стабилизации мирового процесса, вывода его из острой кризисной фазы, создания новой устойчивой глобальной системы выживания и жизни человечества на долгую перспективу.
Terra Humana