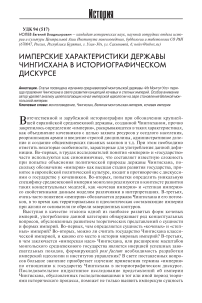Имперские характеристики державы Чингисхана в историографическом дискурсе
Автор: Нолев Евгений Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению средневековой монгольской державы «Их Монгол Улс» периода правления Чингисхана в свете развития концепций кочевых и степных империй. Особое внимание автор уделяет анализу целеполагающих начал имперской идеологии на заре становления Великой монгольской империи.
Монголоведение, чингисхан, великая монгольская империя, кочевая империя
Короткий адрес: https://sciup.org/170171337
IDR: 170171337 | УДК: 94 | DOI: 10.31171/vlast.v27i4.6638
Текст научной статьи Имперские характеристики державы Чингисхана в историографическом дискурсе
В отечественной и зарубежной историографии при обозначении крупнейшей евразийской средневековой державы, созданной Чингисханом, прочно закрепилось определение «империя», раскрывающееся в таких характеристиках, как объединение кочевников с целью захвата ресурсов у оседлого населения, реорганизация армии и введение строгой дисциплины, административное деление и создание общеимперских писаных законов и т.д. При этом необходимо отметить некоторые особенности, характерные для употребления данной дефиниции. Во-первых, в трудах исследователей понятия «империя» и «государство» часто используются как синонимичные, что составляет известную сложность при попытке объяснения политической природы державы Чингисхана, поскольку обозначение «империя» как высшая стадия развития государства, принятое в европейской политической культуре, входит в противоречие с дискуссиями о государстве у кочевников. Во-вторых, попытки определить уникальную специфику средневековой империи монголов реализуются в контексте развития таких концептуальных моделей, как «кочевая империя» и «степная империя» со свойственными данным моделям различиями в интерпретациях. В-третьих, очень часто понятием «империя» обозначается держава Чингисхана и его потомков, в то время как территориальная и идеологическая составляющие империи при жизни ее основателя не обрели завершенных контуров.
Выступая в качестве эталона одной из наиболее развитых форм кочевых империй, употребление данной категории обнаруживает ряд концептуальных вопросов, обусловленных развитием теоретических представлений о сущности и формах империй. Во-первых, чем определяется сущность «кочевых» и «степных» империй? Во-вторых, можно ли считать государство Чингисхана классической империей, и каково его место в истории мировых империй? В-третьих, в чем заключается «имперская идея» Чингисхана, или расширение масштабов монгольского средневекового государства является инерцией успешных завоевательных походов, формирующей post factum необходимость разработки имперской идеологии и институтов управления? В свете поставленных вопросов большое значение приобретает изучение применения термина «империя» по отношению к государству Чингисхана в историографическом дискурсе. Последовательное индуктивное исследование представлений об империи Чингисхана, обусловленных господствовавшими в тот или иной период теориями исторического процесса, поможет не только выявить имперскую сущность средневекового монгольского государства, но и понять, каким образом держава Чингисхана оказала влияние на разработку теоретических подходов к определению феномена империи. Одновременно это поможет избежать опасности модернизации содержания исторического понятия в различные периоды.
В «Сокровенном сказании» дается следующее описание процедуры завершения устройства Монгольского государства и интронизации Чингисхана, состоявшейся в 1206 г.: «Когда он направил на путь истинный народы, живущие за войлочными стенами, то в год Барса, состоялся сейм… и нарекли ханом – Чингисхана»1. Этот эпизод, зафиксированный в монгольской исторической хронике, был воспринят в качестве описания становления Монгольской империи, что отразилось в юбилейных мероприятиях 2006 г., приуроченных к 800-летию ее создания. Согласно тексту «Цза-цзи» южносунского историка Ли Синь-чуаня, название «да мэн-гу го» (Великое Монгольское государство) впервые было использовано в 1211 г.2 Сделав предположение о тождестве значения понятий «да мэн-гу го» и yeke Mongyol ulus , Т.Д. Скрынникова приходит к выводу, что выражение «Великое монгольское государство» могло быть маркером новой политии, сформировавшейся в области вторичной колонизации, оформившейся в результате переноса «престола» [Скрынникова 2013: 113, 116]. Интересное наблюдение, раскрывающее представление о дихотомии сущности и образа кочевой империи в представлениях современников, сделал Н.Н. Крадин: «Конфуцианские летописцы видели мир степных кочевников глазами цивилизованных книжников и интерпретировали его в понятиях бюрократического общества. ‹…› Похожим образом описали монгольское общество и европейские путешественники в XIII в. Действительно, извне империя Чингисхана выглядела как мощное милитаристское государство с сильной автократической властью. Однако это только внешний сторонний взгляд» [Крадин 2007: 273]. Таким образом, описание империи Чингисхана в категориях европейской, исламской и китайской средневековой политической культуры способствовало формированию представления о становлении «традиционной» империи у монголов в период правления Чингисхана. Более поздние упоминания о державе Чингисхана в сочинениях средневековых авторов, опиравшихся на известный им опыт истории государств Чингизидов, содержат элементы модернизации имперских характеристик монгольской средневековой державы в период правления ее основателя.
В начале XX в. в трудах выдающихся отечественных ориенталистов был поставлен вопрос о цели и осознанности имперской идеи. Весьма показательно предположение В.В. Бартольда, сделанное на основе сообщения Джузджани о хорезмийском посольстве к Чингисхану в 1216 г. По свидетельству персидского историка, «Чингис-хан милостиво принял послов и велел передать хорезмшаху, что считает его владыкою Запада, как себя – владыкою Востока» [Бартольд 1963: 461]. По мнению В.В. Бартольда, данный эпизод говорит об отсутствии у монгольского правителя на тот момент планов о всемирном владычестве. Г.Е. Грумм-Гржимайло, обозревая период правления Чингисхана, высказал предположение о проведении им военных кампаний без выработанного заранее плана, «который, если и составлялся, то обнимал только постановку ближайшей цели, не переходя далеко за пределы первых столкновений с неприятелем» [Грумм-Гржимайло 1926: 449]. В это же время американский историк Г. Лэм следующим образом описал попытки раскрыть феномен империи Чингисхана в западной историографии: «эта империя, созданная варварами из ничего, озадачила историков, признающих, что это необъяснимый факт» [Lamb 1936: 14].
В советской историографии возобладал односторонний подход, при котором главной причиной создания Монгольской империи считалось стремление к обогащению феодалов Монголии за счет покоренных народов наряду с эксплуатацией монгольских аратов в условиях ограниченной собственной экономической базы. Вместе с тем мировая империя, создание которой не отвечало жизненным интересам монгольского народа, представляла собрание племен и народностей и не имела общей экономической базы, что делало державу Чингисхана столь же непрочной, сколь и огромной. Альтернативный взгляд на природу Монгольской империи был сформирован в трудах представителей евразийской школы. В этот же период в зарубежной историографии в трудах О. Латтимора, Г. Ленски, М. Фрида, Л. Квантена, Т. Барфилда и др. происходит активная разработка теории «кочевых империй» [Крадин, Скрынникова 2006: 30-38]. В отечественной ориенталистике 1960–1980-х гг. понятие «кочевая империя» начинает использоваться в трудах Г.Е. Маркова и С.А. Плетневой.
В постсоветской историографии специфика Монгольской империи стала осмысливаться в категориях степных и кочевых империй. В.В. Трепавлов в своих трудах обосновал идею о преемственности степных империй Евразии. В условиях неспособности ханской орды в начале XIII в. обеспечить функционирование государственного аппарата на завоеванных территориях, угрозы сепаратизма и опасности чжурчжэньской экспансии Чингисхану требовались эффективные модели управления, разработанные и применявшиеся хун-нами – древними тюрками и уйгурами [Трепавлов 2015: 68]. Следовательно, можно предположить, что преемственность управленческих моделей и традиций в условиях объединения различных народов в степной Евразии является одним из значимых критериев имперскости державы Чингисхана. Вместе с тем В.В. Трепавлов представил периодизацию стратегии консолидации кочевых народов во время правления Чингисхана, раскрыв тем самым сущностные характеристики Монгольской империи на этапе ее становления. В период с 1207 по 1218 г. реализовывалась тактика «объединения народов, живущих за войлочными стенами», объединявшая окрестных номадов в рамках единой империи, преимущественно дипломатическим путем и заключением союзных договоров. Номадизм при этом служил решающим критерием для выбора «подданных». Далее, в 1218–1223 гг., возобладала пропаганда тюрко-монгольского единства на основе действительных или фальсифицированных представлений об общности генеалогических истоков с целью раскола вражеских сил – кыпчаков и их союзников. После 1223 г. все тюркские народы, встречавшиеся на пути монгольской армии, рассматривались как объекты покорения, а не как потенциальные союзники.
Примечательно, что и Н. Ди Космо в своей классификации степных империй, включающей даннические империи (209 г. до н.э. – 551 г. н.э.), империи дуальной администрации (907–1259 гг. н.э.) и империи прямого налогообложения (1260–1796 гг. н.э.), выделил качественно различные этапы при характеристике Монгольской империи. Он определил Монгольскую империю периода правления Чингисхана, во время которого была достигнута беспрецедентная централизация и положено начало завоеванию Средней Азии и части Северного Китая, как империю с торгово-даннической моделью управления. Это объясняется наложением дани на государства Си-Ся и Цзинь, а также «чрезвычайно хищническим» монгольским правлением на завоеванных китайских территориях. По мнению Н. Ди Космо, замещение торгово-даннической модели завоеванием и прямым управлением происходит только при Угэдэе [Ди Космо 2008: 214].
Н.Н. Крадин, внесший значительный вклад в исследование кочевых империй, следующим образом сформулировал данное определение: кочевая империя – это «кочевое общество, организованное по военно-иерархическому принципу, занимающее относительно большое пространство и эксплуатирующее соседние территории, как правило, посредством внешних форм эксплуатации (грабежи, война и контрибуция, вымогание “подарков”, неэквивалентная торговля, дан-ничество и т.д.)» [Крадин 2001: 21-22]. При этом ученый предлагает характеризовать кочевые империи как суперсложные вождества. Монгольская империя периода правления Чингисхана в типологии Н.Н. Крадина соответствует модели кочевой империи, в которой кочевники и земледельцы существуют на расстоянии, а эксплуатация оседлых народов с целью получения прибавочного продукта осуществляется дистанционно [Крадин 2001: 25]. Г.Г. Пиков под империей понимает алгоритм оформления цивилизации, механизм организации пространства в борьбе с многочисленными врагами. Характеризуя кочевые империи как восточноазиатский феномен, исследователь связывает их появление с достижением предела внутреннего развития номадных сообществ, когда все территории поделены, а рост населения принял характер демографического взрыва [Пиков 2012: 10-11]. С.А. Васютин обозначает Монгольскую империю в середине XIII в. как «кочевую суперимперию» [Васютин 2004: 283]. Весьма показательным для изучения целеполагающих начал имперской идеологии Чингисхана является мнение автора о неспособности лидеров империи поставить цели, консолидирующие Чингизидов после окончательного захвата Южного Китая [Васютин 2004: 284]. На наш взгляд, это может свидетельствовать если не об ограниченности имперской идеи завоевательным потенциалом державы, то о доминирующем значении данного потенциала в идеологии освоения имперского пространства.
Вместе с тем созданная Чингисханом мировая сверхдержава предопределила использование в качестве аналитического инструментария универсальной категории «мировая империя». К примеру И. Де Рахивильц, говоря об идеологических основах Монгольского средневекового государства, предположил, что Чингисхан в своем правлении опирался на китайскую традиционную концепцию империи с доктриной «мандата неба» [De Rachewiltz 2010: 169]. Таким образом, ученый показывает, что основание идеологии Монгольской державы выходит за рамки традиций кочевых империй и требует соотнесения с институтами других имперских образований. Однако возможность изучения Монгольского государства с позиций мировой империи обладает большим потенциалом при исследовании истории Чингизидов. В то же время именно деяниями Чингисхана были созданы условия для установления порядка на территории Евразии, именуемого Pax Mongolica , и развития средневековой мир-системы.
Обобщая результаты исследований кочевых и степных империй, можно предположить, что держава средневековых монголов периода правления Чингисхана является особой стадией конструирования Великой монгольской империи, обретающей черты евразийской имперской общности посредством ситуативной трансформации политических и экономических институтов, обусловленной скорее реакцией на геополитические вызовы, нежели осознанным планом нового мироустройства. На наш взгляд, наиболее подходящей образной дефиницией политии Чингисхана, отражающей ее специфику как универсальной, так и кочевой империи, является определение Эрика Фогелина: «imperium mundi in statu nascendi (мировая империя в процессе становления)» [Вернадский 2014: 115].
Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.2. «Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии», номер госрегистрации № АААА-А17-117021310264-4).
Список литературы Имперские характеристики державы Чингисхана в историографическом дискурсе
- Бартольд В.В. 1963. Сочинения. Т. 1. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. М.: Издательство восточной литературы. 763 с
- Васютин С.А. 2004. Монгольская империя как особая форма ранней государственности? (к дискуссии о политических системах кочевых империй). - Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 546 с
- Вернадский Г.В. 2014. Монголы и Русь. М.: Ломоносовъ. 512 с
- Грумм-Гржимайло Г.Е. 1926. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 2. Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. Л.: Типография Главного Ботанического Сада. 906 с
- Ди Космо Н. 2008. Образование государства и периодизация истории Внутренней Азии. - Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. Кн. 3. С. 181-227