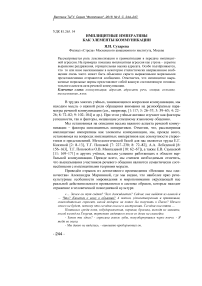Имплицитные императивы как элементы коммуникации
Автор: Сухарева Янина Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается роль лексиколизации и грамматизации в передаче имплицитной агрессии. На примерах показана имплицитная агрессия как угроза - скрытое выражение раздражения, отрицательная оценка адресата. Особо подчёркивается, что то или иное высказывание в некотором стилистически направленном сообщении очень часто может быть объяснено скрыто выраженными моральными представлениями отправителя сообщения. Отмечается, что имплицитно выраженные моральные нормы представляют собой важную составляющую познавательного аспекта акта речевой коммуникации.
Коммуникация, адресат, адресант, речь, эмоция, сознание, высказывание, язык
Короткий адрес: https://sciup.org/146281254
IDR: 146281254 | УДК: 81.265.
Текст научной статьи Имплицитные императивы как элементы коммуникации
В трудах многих учёных, занимающихся вопросами коммуникации, мы находим мысль о важной роли обращения внимания на разнообразные параметры речевой коммуникации (см., например, [1:117; 5: 26–37; 3: 59–65; 4: 22– 26; 8: 72–82; 9: 102–104] и др.). При этом учёные активно изучают как факторы успешности, так и факторы, мешающие успешному языковому общению.
Мы остановимся на описании весьма важного аспекта речевой коммуникации – фактора имплицитных императивов. Отметим, что, рассматривая имплицитные императивы как элементы коммуникации, мы, прежде всего, остановимся на вопросах имплицитных императивов как совокупности стереотипов и представлений. Методологической базой для нас являются труды Е.Г. Князевой [2: 8–13], Т.Г. Поповой [7: 227–230; 8: 72–82], А.А. Лебедевой [6: 156–163], Т.Г. Поповой и О.В. Мингалевой [10: 62–67]), а также Е.В. Саушевой [11: 169–171] и других учёных, весьма успешно работающих в области вербальной коммуникации. Прежде всего, мы считаем необходимым отметить, что высказывания участников речевого общения являются семантически соотнесёнными с имплицитными теориями морали.
Приведём отрывок из детективного произведения «Воющие псы одиночества» Александры Марининой, где мы видим, что наиболее ярко речекультурные особенности мировидения и миропонимания окружающей нас реальной действительности проявляются в системе образов, которые находят отражение в человеческой повседневной культуре.
«… Зачем он тут сидит? Чего дожидается? Сейчас она выйдет из ванной и Что? Кинется к нему в объятия? А потом, удовлетворенная и притихшая, снисходительно спросит, какой подарок он хотел бы получить к Пасхе? Ничего этого не будет, потому что сегодня она не в настроении. Сегодня она опять ...
Появилась среди ночи, взбудораженная, нервная, бросила, выходя из машины, косой взгляд на Георгия, терпеливо сидевшего возле ее дома на скамейке.
-
- Зачем ты здесь? - спросила сквозь зубы, полуобернувшись через плечо. - Я тебя не звала.
-
- Мы давно не виделись, - виновато пробормотал он.
-
- Ну и что? Это дает тебе право меня караулить? Ты должен приходить только тогда, когда я тебе звоню, и мы договариваемся. Сколько раз нужно повторять, чтобы ты наконец запомнил?
-
- Я могу войти? - покорно вздохнул он.
В тот момент он еще надеялся, что она просто задержалась в гостях...».
(Александра Маринина. Воющие псы одиночества. М., 2012. С. 3)
Как мы видим из приведённого фрагмента, имплицитные императивы выступают наряду с другими языковыми средствами в качестве важнейшего инструмента социально востребованного процесса знаковых программ действий. Они также согласовывают фоновые ожидания и взаимное уточнение значений, позволяющих участникам приведённого нами диалогического акта Георгия и Али побуждать друг друга к интерактивно необходимым действиям. Подобные высказывания позволяют представлять свою личность, своё поведение и свои высказывания как приемлемые и разумные на основе актуализируемых фрагментов имплицитных императивов. Приведём ещё один фрагмент из того же произведения Марининой и опишем стратегию построения диалога героинями произведения Диной и Алей.
«Давай сразу оставим попытки врать, потому что вернулась ты совсем недавно, минут за двадцать до моего прихода, у твоих туфель до сих пор мокрые подошвы. А дождь, если ты не забыла, начался после часа ночи, до часу тротуары были сухими. Так, где ты была?
-
- Гуляла.
Дина посмотрела с вызовом, но тут же отвела глаза.
-
- Где? - продолжала допрос Аля.
-
- На улице. Где еще можно гулять? Парки закрыты, на проезжей части машины. По тротуару гуляла.
-
- Не хами, детка. Ты гуляла одна или с кем-то?
-
- Не твое дело...
-
- И не груби. Так с кем ты гуляла?
-
- Одна! Одна я гуляла. Я что, воздухом подышать не могу? Я просто гуляла, понимаешь ты это?
Дина невольно повысила голос, и Аля тут же оборвала ее:
-
- И не кричи, пожалуйста. Папа тебе разрешил уходить так поздно?
-
- Аля, мне девятнадцать лет, ты не забыла?
-
- Значит, ты дождалась, пока отец уснет, и ушла. И где-то шлялась до половины третьего ночи. Так, Динок?
-
- А хоть бы и так! Что такого?»
(Александра Маринина. «Воющие псы одиночества». М., 2012. С. 5).
Как мы видим, героини произведения используют имплицитную языковую агрессию как непрямую речевую стратегию, поскольку эксплицитная агрессия является запрещённым приёмом при построении диалога даже при условии использования Алей сниженной лексической единицы «шлялась». Поэтому Аля использует имплицитную агрессию, которая выражается через критику Дины, которая передаётся языковыми средствами путём лексиколиза-ции и грамматизации, например, «И где-то шлялась до половины третьего ночи. Так, Динок ?».
Применение вопроса адресатом представляет собой ещё один способ выражения имплицитной агрессии. В приведённом нами фрагменте примерами имплицитной агрессии являются такие реплики-вопросы, как «Я просто гуляла, понимаешь ты это?» «Аля, мне девятнадцать лет, ты не забыла?», которые используются Диной для того, чтобы задеть и упрекнуть Алю. Тем самым Дина даёт понять Але, что она не замечает очевидных вещей, и это её очень раздражает. Скрытое раздражение героини детективной повести передаётся именно через имплицитную агрессию. Здесь также налицо гиперболические использование лексики: «Не хами, детка» …» «… И не груби». Тем самым передается агрессивное отношение к адресату. На основе такого понимания имплицитных императивов мы можем допустить, что неявно выраженные моральные нормы представляют собой составляющую когнитивного аспекта акта речевой деятельности как адресата, так и адресанта.
Владение подобным фактом, на наш взгляд, является весьма важным, поскольку лишь поверхностное знание особенностей коммуникативных составляющих является существенной причиной недопониманию собеседника и ведёт к образованию ложных имплицитных моральных представлений и стереотипов, что осложняет как профессиональное, так и обыденное общение.
Для выражения правдивости своих намерений, а также своей уверенности в сообщаемой информации или же напротив, частичного или полного сомнения в возможности той или иной ситуации или событийного ряда, отправитель сообщения выбирает те или иные коммуникативные средства, которые наиболее характерно и очевидно отображают его интенцию.
Язык и его проявление в речи, несомненно, представляет собой эгоцентрическое явление. Выражение языка в речевом акте зависит от целого ряда факторов, среди которых в первую очередь следует отметить разнообразие способов речевого общения в вербальном отражении подаваемой информации [2: 8–13]. Действительно, в речевом акте на центральном месте представлен человек как говорящий индивид. Таким образом, говорящая личность воспринимает мир, конечно же, через своё бытие. Соответственно, сущностью языкового проявления является человеческая деятельность.
Описывая особенности имплицитных императивов как важнейших элементов коммуникации, необходим подчеркнуть, что при изучении особенностей коммуникативного акта большая роль отводится нашему пониманию весомой роли языка в переработке сообщений, которые поступают реципиенту от отправителя той или иной информации и которая поступает к нему от тех или иных каналов сообщений. Эти сообщения воспринимаются и обрабатываются, а затем классифицируются и категоризируются. Рассмотрев имплицитные императивы как совокупность стереотипов и представлений, мы можем сделать вывод, что компонента высказываний в том или ином стилистически направленном сообщении достаточно часто может быть объяснена явно невыраженными моральными представлениями отправителя сообщения.
Коммуникация. Перевод». Москва. Военный университет. (30 июня 2017 г.). М.: «Междунар. отношения», 2017. С. 8 –13.
Список литературы Имплицитные императивы как элементы коммуникации
- Иванов Н.В. Актуальное членение предложения в текстовом дискурсе и в языке (по материалам сопоставительного изучения португальских и русских текстов): монография. М.: «Азбуковник», 2010. 215 с.
- Князева Е.Г. Полимодальный дискурс с невербальным компонентом//Военно-гуманитарный альманах. Серия «Лингвистика». Вып. № 2. Том 2/«Язык. Коммуникация. Перевод». Москва. Военный университет. (30 июня 2017 г.). М.: «Междунар. отношения», 2017. С. 8 -13.
- Князева Е.Г. Синтез смыслов//Структурная метафизика языка и феноменология речевого дискурса: критерии системных интерпретаций: мат-лы IX Междунар. науч. конф. (26 июня 2015 г.). М.: «Междунар. отношения», 2015. С. 59-65.
- Князева Е.Г. Единица дискурса//Аксиомы и парадоксы языка: структура, коммуникация, дискурс: мат-лы VII Междунар.науч. конф.(28 июня 2013 г.). М.: ЗАО «Книга и бизнес», 2013 г. С. 22-26.
- Колшанский Г.В. Текст как единица коммуникации//Проблемы общего и германского языкознания. М.: МГУ, 1978. С. 26-37.
- Лебедева А.А. К вопросу об эквивалентности лексических единиц при переводе//Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2016. № 2. С. 156-163.
- Попова Т.Г. Речевой портрет и его моделирование.//Профессионально ориентированное обучение иностранному языку и переводу в вузе. Материалы ежегодной междунар. науч. конф. 2012. С. 227-230.
- Попова Т.Г., Бокова Ю.С. Категория «ценность» как сущностная характеристика языка//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика, 2012. №2 (261). С. 72-82.
- Попова Т.Г., Бокова Ю.С. Ментальные процессы и закономерности вербализации концептуальных единиц//Верхневолжский филологический вестник, 2016. № 4. С. 102-104.
- Попова Т.Г., Мингалева О.В. Перевод как вербальная проекция этноментального опыта//Язык, литература и культура как грани межкультурного общения. сб. науч. тр. Пльзень -Москва, 2016. С. 62-67.
- Саушева Е.В. Роль языковой картины мира в процессе коммуникации//Вестник Костромского государственного университета. 2017. № 3. Т. 23. С. 169-71.