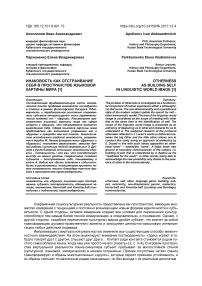Инаковость как отстраивание себя в пространстве языковой картины мира
Автор: Аполлонов Иван Александрович, Пархоменко Елена Владимировна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2017 года.
Бесплатный доступ
Составляющая фундаментальную часть человеческого опыта проблема инаковости исследуется в статье в рамках философского дискурса. Одномерность и парадоксальное состояние современного субъекта актуализируют поиск герменевтических моделей «я» - «другой». Рассмотрено пространство языковой картины мира как сфера встречи с «другим», что одновременно является выявлением себя. Сфера языковой картины мира представлена как антиномия укоренения нас в «другом» и преграды нам его понять. Аналитическое исследование глубокой инаковости, отраженное в трудах Ж. Лакана (разграничение «Другого» и «другого»), позволяет реализовать замысел данной работы используя подход «аналектики» Э. Дусселя в русле бинарной оппозиции: инаковость/«другой» - тотальность / «то же», что способствует выходу на новый уровень пограничного сознания субъекта - отстраиванию себя, понимаемому в ключе А. Бадью как «Быть готовым к событию»: быть в расположении, позволяющем признать новую возможность только благодаря наличию другого в пространстве трансмодерности.
Инаковость, "я", "другой", языковая игра, отстраивание, субъект, экстериорность, одномерный человек, аналектика, herrschaft und knechtschaft (господство и подчинение), трансмодерность
Короткий адрес: https://sciup.org/14941165
IDR: 14941165 | УДК: 165.12:101.8:801.73 | DOI: 10.24158/fik.2017.12.4
Текст научной статьи Инаковость как отстраивание себя в пространстве языковой картины мира
Современная социокультурная реальность представлена как пространство, имеющее множество измерений с тенденцией к постоянно возникающим новым формам идентичности и субъектности. С одной стороны, сетевое измерение создает все условия для пересечения культур, способствуя тем самым более тесной коммуникации, а следовательно, и пониманию. Однако, с другой стороны, подобное пересечение культурных миров дробит субъект, что влечет за собой трансформацию духовно-нравственного аспекта и затрудняет ценностно-смысловую интерпретацию любых действий индивида.
Импровизации с виртуальной реальностью изменили все существующие способы межличностного взаимодействия. На этом акцентируют внимание постмодернисты: «Здесь играют в то, будто говорят друг с другом, слушают друг друга… Контакт ради контакта становится родом пустого самособлазна языка, когда ему уже просто нечего сказать» [2, с. 3–4]. В игровом пространстве виртуальной реальности языка-симулякра субъект пребывает за многослойной стеной (культурной, языковой, эмпирической) в некоем пограничье. Причем отсутствие четких границ трансформирует и образы многочисленных «других», которые теряют прежнюю устойчивость, и их образы скользят по различным рядам означающих, но без выхода к их реальным денотатам.
Однако подобная многомерность виртуального игрового пространства не ведет к усложнению личностной структуры человека. Напротив, в нем личность упрощается до «одномерного человека», лишенного социально-критического ориентира, с искаженным видением мира и утратой смыслов бытия [3]. В качестве репрезентации себя мы наблюдаем ситуацию мелькания масок новейшей эпохи, порой выражающую «клинические» смыслы. «Аутентификация патологических видов маски осуществляется через дисгармоничное сочетание, болезненную фрагментированность, расщепление, фантомность и симуляцию образов “я”, “другого” и мира» [4]. Ситуация обезличивания в процессе примеривания многочисленных масок и постоянного пересечения границ между виртуальными мирами заставляет субъекта искать новые способы и механизмы, позволяющие понимать «других», а вместе с ними и себя, с помощью чего будет возможен прорыв универсальной одномерности, формирование новых влечений и потребностей, «новой чувственности» (Г. Маркузе).
В данном контексте проблема инаковости, поставленная еще в метафизике Платона (диалог «Тимей»), «где тождественное и иное обнаруживаются вместе» [5], вышла в область междисциплинарных исследований и получает особую актуальность в ХХI в. ввиду «парадоксального состояния индивида, вынужденного осуществлять поиск ориентиров, соотнося свое поведение с поведением других людей» [6].
Ввиду того что в ситуации постмодерна языковая картина мира занимает статус формы бытия сознания, современная эпистемология выявляет новые матрицы познавательных практик, способных выстраивать продуктивный диалог «я» – «другой». Поэтому в качестве пространственного поля отношения к инаковости нами будет рассмотрена сфера языка. Согласно концепции российского лингвиста С.Г. Тер-Минасовой, «языковая картина мира отражает реальность через культурную картину мира» и является формой окружающего человека мира [7, с. 38–40]. Тем самым язык формирует содержательные границы «второй природы» человека.
Проводя языковую структуризацию человеческого опыта, аналитическое направление философии языка рассматривает модель данной формы как сложную архитектуру, образно представленную в трудах Л. Витгенштейна: «Язык можно рассматривать как старинный город: лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и новых домов, домов с пристройками разных эпох; и все это окружено множеством новых районов с прямыми улицами регулярной планировки и стандартными домами» [8]. В определенных речевых актах субъект задействует те или иные фрагменты подобной архитектуры, однако другие ее элементы так же имплицитно в данных актах присутствуют, порождая те или иные коннотативные связи. Тем самым, представляя собой синергетическую систему, где все жизненные миры связаны так, что образуют онтологическое единство, погруженное в языковые структуры, языковая практика представлена определенным набором ситуативных правил (языковые игры), определяющим наши речевые акты, на которые указывают границы моего языка-мира [9]. Прагматический анализ языка (У. Куайн, Н. Гудмен), построенный на синтезе точки зрения поведения говорящих и слушателей, ликвидирует разницу между «миром как он есть сам по себе» и сферой человеческих знаний о нем, однако требует понимания языка: непрерывного процесса приспособления к интерпретируемым высказываниям (Д. Дэвидсон) «другого», через которого возможна и саморефлексия.
Язык, согласно этической феноменологии Э. Левинаса, есть та зона, где происходит осмысленное столкновение с «другим». «Происходит выявление себя, оставаясь абсолютно внешним по отношению к любому образу, который он вызывает. В языке экстериорность осуществляет себя, раскрывает себя со всей присущей ей силой» [10, с. 276–278]. Необходимость «другого» (при условии признания) для осознания индивида подчеркивает и Г. Гегель. Инако-вость является для него установленной диалектикой самого себя, собственного самосознания: «Самосознание индивида достоверно знает себя самого, но не “другого”, и потому его собственная достоверность о себе еще не обладает истиной» [11, с. 99–100].
Философское осмысление инаковости сопровождается попытками исследователей выйти за пределы только лишь философского дискурса. Исследуя глубинную инаковость, французский психиатр Ж. Лакан представляет пространство языковой картины мира как антиномию укоренения нас в «другом» и внутренней преграды для его понимания. Психоаналитический опыт показывает, что в процессе диалога «я» не в состоянии знать, что же именно находится в поле, где протекает конкретный диалог с «другим». «Я» всегда имеет дело с теми, с кем происходит само-отождествление (а), однако собственная инаковость «другого» (А) находится за границей подобных самоотождествлений. Лакан подчеркивает: функция речи на самом деле имеет дело с «другим» (А), к которым мы призываем на самом деле (истинные субъекты), однако довольствоваться нам приходится только их тенями. «Они находятся под другую сторону стены языка. Это ведь к ним, по сути дела, обращаюсь я каждый раз, когда произношу слово истины, но достигает оно, по законам отражения, лишь а' да а''» [12, с. 351–352]. Инаковость «другого» в этом ключе не воспринимается как угроза, она интегрируется в область привычного этического дискурса, где
«другой» уже не воспринимается как чуждый: «позитивный аспект этих отношений проявлен в нравственных ситуациях опыта встречи, дарения, исповедания в качестве форм отношения к “другому”, выраженных в языке, где проявляет себя необъективируемая реальность» [13].
В данном контексте «другой» уже не может быть редуцирован к набору тех или иных ролей, воплощающих драматургию законченных смыслов. Он предстает непредумышленной данностью себя как субъекта, онтологически превышающего все возможные роли и идентификационные образы. Тем самым он открывает и субъектность моего «я», выводит меня из состояния данности объекта, слитого со смыслами имплицитной картины мира.
Тем самым язык способен развернуть то пространство смыслов, которое способно вместить и исходную привычность себя, и изначально чуждую инаковость «другого». Подобный модус языка не сводится лишь к виртуальной гиперреальности игровых симулякров, поскольку смысловое содержание последних герметично, способно множить лишь смысловые коннотации, следы и повторы. Язык диалога, напротив, направлен на «другого» в его жизненной цельности. Тем самым в нем разворачивается апофатическая открытость смыслов, выводящая субъектов диалога на более высокий уровень сложности, на котором открывается скрытая целостность видимых противоположностей.
И в этом модусе языка именно «другой», причем «другой» в его бытийной реальности, а не в качестве одной из игровых идентификационных масок, является условием продуцирования моих изменений, поскольку его инаковость предоставляет мне возможность творить невозможное из моей самости. «Это исполнение есть потребность в переходе, который вбирает в себя все бывшее и подготавливает будущее» [16, с. 7]. Исходя из этого, освобождение равно конструированию себя перед лицом тотальности, предполагающему хайдеггеровскую вовлеченность человеческого присутствия в мир (Dasein) [17] и попадание в возможность-бытия.
Данное положение обусловлено предварительным признанием возможности и необходимости «бытия-с-другими», уже не понимаемого в ключе «L'enfer, c'est les autres» Ж.-П. Сартра, поскольку в нем преодолевается бинарная оппозиция «господство – подчинение». Это движение через новизну инакового есть жизнь каждого человека от рождения до смерти, отсылающая к идее вечного возвращения Ф. Ницше: «сущее, которое как таковое в качестве своей основной особенности имеет волю к власти, может в целом быть только вечным возвращением того же самого» [18, с. 249].
Экстериорность в этом ключе обретает определенные черты видимости: «В тот момент, когда другой глядит в глаза своего, понимая, что он был изобретением этого своего… и когда субъект осознает, что свой его сделал иным, чтобы доминировать, именно тогда и возникает трансмодерность как иное пространство мышления и действия» [19]. Данная мысль Э. Дусселя выводит на новый уровень понимания наше пограничное сознание и способствует отстраиванию себя, которое А. Бадью назвал «Быть готовым к событию», т. е. быть в расположении, позволяющем признать новую возможность, в котором порядок мира, господствующие силы не обладают абсолютным контролем над возможностями [20, с. 11]. Этот концепт приводит к тому, что несовместимые друг с другом, но одинаково сочетаемые с языковой осмысленностью миры становятся совместимыми и в этическом дискурсе, рождают особый тип субъектности, что может быть проиллюстрировано словами Х. Аргуэльеса: «Я – это другой Ты!».
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что философское осмысление проблемы инаковости, позволяющее рассматривать уникальные формы концепта «я» – «другой» в пространстве языковой картины мира, способно генерировать новые тексты и смыслы, обеспечивать реализациию цельности субъекта в поле трансмодерности. Отстраивание себя путем развития пограничного сознания выводит данную область исследования в сферу междисциплинарности, что способствует выявлению всевозможных жизненных моделей множественной идентичности современного мира, обретая при этом многомерную структуру личностной целостности. Тем самым открывается возможность осуществления транскультурационного перевода с языка одной инаковости на язык другой, что позволяет обществу осознавать различные процессы современного развития мира в их целостности.
Ссылки и примечания:
-
1. Статья подготовлена при финансовой поддержке Российской Федерации в лице Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык».
-
2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. О.А. Печенкина. Тула, 2013. 204 с.
-
3. Маркузе Г. Одномерный человек : пер. с англ. М., 1994. 368 с.
-
4. Тихомирова Е.Г. Маска как форма репрезентации смыслов культуры : автореф. дис. … д-ра филос. наук. Ростов н/Д., 2016. 50 с.
-
5. Платон. Сочинения : в 4 т. : пер. с древнегреч. Т. 3, ч. 1 / под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. СПб., 2007. 752 с.
-
6. Смоляк О.А. Европейский дискурс другого: проблема ориентирования современного человека в жизненном мире :
-
7. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. 259 с.
-
8. Витгенштейн Л. Философские исследования. Кембридж. Янв. 1945 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2014/12/%D0%BB%D1%8E%D0%B4_1.pdf (дата обращения: 10.10.2017).
-
9. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Cit. ex: Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlung. Frankfurt am Main, 1969. S. 89.
-
10. Левинас Э. Избранное. Тотальность и бесконечное. М. ; СПб., 2000. 416 с.
-
11. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2000. 495 с.
-
12. Лакан Ж. Семинары. Кн. 2. Я в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955) / пер. с фр. А. Черноглазова.
-
13. Звягинцева Е.И. Инаковость и ее границы: опыт феноменологии другого : автореф. дис. … канд. филос. наук. Казань, 2014. 21 с.
-
14. Hegels G.W.F. Phänomenologie des Geistes. Leipzig, 1907. S. 123–131.
-
15. Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 18.
-
16. Хайдеггер М. Ницше : в 2 т. Т. 2. СПб., 2007. 456 с.
-
17. Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В.В. Бибихина. М., 2015. 460 с.
-
18. Хайдеггер М. Ницше. Т. 2. С. 249.
-
19. Тлостанова М.В. Человек в современном мире: проблемы множественной идентичности [Электронный ресурс] // Вопросы социальной теории : науч. альм. 2010. Т. IV. Человек в поисках идентичности. С. 191–217. URL: https://iph-ras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2010/10.pdf (дата обращения: 25.11.2017).
-
20. Бадью А., Тарби Ф. Философия и событие. Беседы с кратким введением в философию Алена Бадью. М., 2013. 170 с.
дис. … канд. культурологии. Екатеринбург, 2004. 217 с.
М., 1999. 520 с.
Список литературы Инаковость как отстраивание себя в пространстве языковой картины мира
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция/пер. О.А. Печенкина. Тула, 2013. 204 с.
- Маркузе Г. Одномерный человек: пер. с англ. М., 1994. 368 с.
- Тихомирова Е.Г. Маска как форма репрезентации смыслов культуры: автореф. дис. … д-ра филос. наук. Ростов н/Д., 2016. 50 с.
- Платон. Сочинения: в 4 т.: пер. с древнегреч. Т. 3, ч. 1/под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. СПб., 2007. 752 с.
- Смоляк О.А. Европейский дискурс другого: проблема ориентирования современного человека в жизненном мире: дис. … канд. культурологии. Екатеринбург, 2004. 217 с.
- Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. 259 с.
- Витгенштейн Л. Философские исследования. Кембридж. Янв. 1945 г. . URL: http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2014/12/%D0%BB%D1%8E%D0%B4_1.pdf (дата обращения: 10.10.2017).
- Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Cit. ex: Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlung. Frankfurt am Main, 1969. S. 89.
- Левинас Э. Избранное. Тотальность и бесконечное. М.; СПб., 2000. 416 с.
- Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2000. 495 с.
- Лакан Ж. Семинары. Кн. 2. Я в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955)/пер. с фр. А. Черноглазова. М., 1999. 520 с.
- Звягинцева Е.И. Инаковость и ее границы: опыт феноменологии другого: автореф. дис. … канд. филос. наук. Казань, 2014. 21 с.
- Hegels G.W.F. Phänomenologie des Geistes. Leipzig, 1907. S. 123-131.
- Хайдеггер М. Ницше: в 2 т. Т. 2. СПб., 2007. 456 с.
- Хайдеггер М. Бытие и время/пер. с нем. В.В. Бибихина. М., 2015. 460 с.
- Тлостанова М.В. Человек в современном мире: проблемы множественной идентичности //Вопросы социальной теории: науч. альм. 2010. Т. IV. Человек в поисках идентичности. С. 191-217. URL: https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2010/10.pdf (дата обращения: 25.11.2017).
- Бадью А., Тарби Ф. Философия и событие. Беседы с кратким введением в философию Алена Бадью. М., 2013. 170 с.