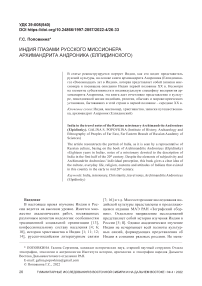Индия глазами русского миссионера архимандрита Андроника (Елпидинского)
Автор: Поповкина Галина Сергеевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 4 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье реконструируется портрет Индии, как его видит представитель русской культуры, на основе книги архимандрита Андроника (Елпидинского) «Восемнадцать лет в Индии», которая представляет собой записки миссионера и посвящена описанию Индии первой половины ХХ в. Несмотря на элементы субъективности и индивидуальную специфику восприятия архимандрита Андроника, эта книга дает отчетливое представление о культуре, повседневной жизни индийцев, религии, обычаях и мировоззренческих установках, бытовавших в этой стране в первой половине - середине ХХ в.
Индия, миссионер, христианство, записки путешественника, архимандрит андроник (елпидинский)
Короткий адрес: https://sciup.org/170196185
IDR: 170196185 | УДК: 39:008(540) | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-4/26-33
Текст научной статьи Индия глазами русского миссионера архимандрита Андроника (Елпидинского)
В настоящее время изучение Индии в России ведется на высоком уровне. Имеется множество академических работ, посвященных различным аспектам индологии: особенностям традиционной социальной организации [13], конфессиональному составу населения [4; 6; 10], истории христианства в Индии [1; 11; 12; 14], русско-индийским литературным связям
[7; 16] и т.д. Многосторонние исследования индийской культуры представлены в продолжающемся издании МАЭ РАН «Зографский сборник». Отдельное направление исследований представляет собой история изучения Индии в России [5; 8]. Однако академическое изучение Индии не исчерпывает всей полноты культурных связей, формирующих представления об Индии в сознании рядовых россиян. Не мень- шее, а, может быть, и большее значение имеют произведения художественной литературы в жанре записок путешественника или травело-ги [9]. Пожалуй, первым и наиболее известным произведением такого рода было «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, в котором переплелись вполне реальные сведения и мифологические представления об этой стране [15]. Цель данной работы – эксплицировать портрет Индии так, как его видит представитель русской культуры, используя в качестве источника книгу архимандрита Андроника (Елпидинско-го) «Восемнадцать лет в Индии», которая представляет собой записки миссионера и посвящена описанию Индии первой половины ХХ в. Этот портрет, безусловно, будет содержать в себе какие-то штампы и стереотипы, соответствующие времени написания и социальному статусу автора и порой выходящие за границы современной политкорректности.
Архимандрит Андроник (Елпидинский) провел в Индии 18 лет (1931–1948 гг.), посвятив эти годы установлению тесных отношений с индийскими христианами разных конфессий. Его труд «Восемнадцать лет в Индии», по своему жанру напоминающий дневник путешествия, был издан в 1959 г. в Аргентине, а в России он впервые увидел свет лишь в 2012 г. Идея посетить Индию и сделать все возможное для соединения индийских христиан с православными появилась у Андрея Елпидинского, будущего архимандрита Андроника, еще в 1916 г., когда он учился в Олонецкой духовной семинарии. Первая мировая война и последовавшие за ней революционные события в России не дали возможность продолжить духовное образование. После тяжелой жизни в Финляндии и Германии в 1925 г. в Париже он был пострижен в монахи. В 1931 г. он отправился из Марселя на Цейлон, некоторое время останавливался в разных районах Индии, а чуть позже поселился на высоком холме в центре Траванкора [2]. Его миссионерская работа не принесла сколько-нибудь заметных плодов: не состоялось ни объединения православных и индийских христиан, ни обращения индийцев в православие.
Однако проведенные в Индии годы нашли отражение в книге архимандрита Андроника. Эти записки, с одной стороны, носят автобиографические черты, с другой – имеют вид этнографических дневников и размышлений об истории Церкви. Арх. Андроник долгое время жил и проповедовал среди индийцев, а свои наблюдения, как умел, записывал в дневниках. Во многом, видимо, его подвигала на этот труд природная любознательность и неравнодушие, о чем сам арх. Андроник пишет: «…Кочуя из страны в страну и что-либо делая на церковном поприще, я всегда старался узнать обстановку и психологию людей, их нужды, желания, заботы» [3, с. 165–166]. Несмотря на то, что главная цель книги – показать религиозную ситуацию в Индии, русский монах фиксировал в ней все, на что было обращено его внимание или что произошло с ним. Совершенно очевидно, что записки архимандрита Андроника содержат богатые сведения о культуре Индии в недавнем прошлом. Не перегруженное этнографическими терминами и теориями, повествование русского монаха дает отчетливое представление о культуре, повседневной жизни индийцев, религии, многих обычаях и мировоззренческих установках, бытовавших в этой стране в первой половине – середине ХХ в. Кроме того, эта книга – прекрасная иллюстрация того, каким образом иная культура воспринималась человеком религиозным, занятым миссионерскими целями. Для реконструкции образа Индии, представленного в работе архимандрита Андроника, попытаемся классифицировать имеющиеся в книге материалы.
Внешний вид и здоровье индийцев
Внешний вид окружавших его людей архимандрит Андроник описывает крайне редко и скупо. Среди индийцев, язычников и христиан, по наблюдениям монаха, есть темнокожие и светлокожие [3, с. 48]. Одно из первых и немногих описаний внешности индийцев создано под впечатлением от поездки с Цейлона в Коимбатур: «…Прежде всего бросилось в глаза то, что мужчины, как и женщины, носят пучки волос на голове, а также и смешение одежды: некоторые были одеты по-европейски, другие в пиджаках, но вместо брюк – кусок материи вроде женской юбки до самой земли». Особенно его поразила местная традиционная мужская одежда – дхоти: «…Большинство же было одето как мы, когда бываем в нижнем белье, и тоже вместо брюк кусок материи; некоторые – полуголые или с небольшим куском материи у пояса» [3, с. 23–24]. Впоследствии арх. Андроник во время строительных работ и сам стал одеваться «как все в Индии»: ходил босиком, а одежда состояла «из куска материи от пояса до колен» [3, с. 147]. В одежде ходили только в общественных местах, «дома же было все гораздо проще» [3, с. 263–264]. Так, чиновник или учитель на работе должны были носить дхоти и рубашку, женщины – сари, дома же могли быть только в юбке, маленькие дети – без одежды. Причем дхоти арх. Андроник не называет иначе, как «куском материи, обернутым вокруг пояса».
Обычным явлением в Индии было плохое питание. Худоба крестьян обращает на себя внимание архимандрита: «…Все босоногие, бедно одетые, худощавые, очевидно от плохого питания» [3, с. 27–28]. Полуголодное существование влекло физическую недоразвитость детей. Он приводит в пример своего работника Самуила и его сестру, остановившуюся в росте и в 4–5 лет выглядевшую пожилой [3, с. 133]. Судя по всему, забота о здоровье не была характерна для простых индийцев. Брат Самуила погиб, так как после укуса кобры не стал ничего предпринимать для облегчения ситуации, полагая, «что это ничего особенного» [3, с. 141].
Традиции питания
Архимандрит Андроник описывает традиции питания индийских христиан, у которых основу рациона составляют рис, кокос и другие орехи, много острых приправ и в небольших количествах мясо и рыба. Местная природа способствует несложному ведению хозяйства: «При теплом климате, где у некоторых почти совсем нет одежды, где хижины нужны только для защиты от дождя и солнца, а не от холода, где плодовые деревья круглый год дают плоды, а тапиока растет при очень небольшом уходе, – людям в крайнем случае можно жить, как птицам небесным. Некоторые так и живут» [3, с. 269]. К отсутствию столовых приборов русский монах так и не привык и пользовался во время еды ложкой. При описании блюд он не использовал местные названия: «Если хозяин дома беден, гостям предлагаются только листья с какой-то белой мазью для жевания. Более состоятельные хозяева угощают фруктами, местным печеньем и кофе» [3, с. 100]. Гораздо подробнее рассказывается о растениях, которые он выращивал: фасоль, баклажаны, тапиока, похожий на картофель овощ келяня, качиль, ямб, овощи чена и темпе, бананы, ананасы, папайя, деревья джак-фрут, манго и каша нат, кокос [3, с. 121–124]. Однако при возделывании растительных продуктов в тропиках приходилось соблюдать осторожность: «Из-за микробов, как мне говорили, там нельзя культивировать не- которые растения. В жарком климате микробы способствуют быстрому гниению продуктов, а также болезням людей и животных» [3, с. 114]. Проблема болезней обозначается почти сразу после приезда миссионера в Индию. Встречавший его товарищ, «уроженец Донской области», предупреждает: «Первое правило для белых в Индии – ничего не покупать съестного у индусов. Они так грязны, что очень легко заразиться» [3, с. 26].
Занятия и материальная культура
Архимандрит Андроник хорошо обрисовывал те стороны жизни индийцев, с которыми сам сталкивался. Так, на страницах его книги можно найти описание дома, который ему построили местные жители: «Они из срубленных здесь же столбиков и палок сделали стойки и стропила, обтянули все кокосовыми листьями и дом был готов. Длина дома была три метра, ширина – два метра… Домик со всех сторон был плотно закрыт кокосовыми листьями, окон не было; входя в единственную дверь, нужно было сгибаться, а стоять можно было только посередине дома. У двух стен крыша спускалась ниже плеч. Пол, конечно, был земляной, и на нем в виде ковра лежал еще один сплетенный кокосовый лист. От дождей, ветров и солнца дом этот был достаточной защитой» [3, с. 107–108]. Внутри было такое же нехитрое убранство: «Вся мебель состояла из двух досок-горбов, служивших мне и кроватью, и сиденьем, и столом» [3, с. 107].
Живя на вершине горы Мадура маля, русский монах занимался сельским хозяйством: выращивал съедобные растения, разводил коров. Он рассказал, что на горе была плодородная земля, но прежде, чем возделывать что-либо, приходилось делать террасы, иначе «при сильных дождях разрыхленная земля со склонов быстро смывается под гору»: «Строя террасы, местами я добавлял на них землю, углубляя места посадок, благодаря чему получал хорошие урожаи» [3, с. 121]. Однако отмечает, что мало где строятся террасы, земля индийцами обрабатывается небрежно, и из-за частых ливней уносится потоками. Между горами и холмами уход за землей ведется только на равнинах и в низинах. Исключение составляют рисовые поля, «заливаемые во время дождей многочисленными потоками. Обрабатываются и удобряются они хорошо, почти все дают два урожая в год, и всегда бывает радостно видеть то веселые всходы риса, выступающие из воды, то налива- ющиеся колосья, обещающие урожай, то самую жатву, когда подсохшие поля полны людей, в радостном настроении убирающих урожай» [3, с. 157–158]. На сухих ровных местах около рек выращивали сахарный тростник, из которого делали «сгущенный сахар». Архимандрит Андроник довольно подробно описывал этот процесс: «Зрелые стебли, такие же, как кукурузные, при уборке тут же на поле пропускаются между двумя валами. Текущий сок собирается в большие чаны и тут же переваривается. Сладкую светлую жидкость нельзя недоваривать, чтобы не осталась слишком жидкой, но нельзя и переваривать. Специалисты снимают ее с огня, когда она становится густой, но сохраняет текучесть. Недорого покупал я жестяные банки по 60 фунтов такого сгущенного сахара и 3–4 месяца пользовался этим здоровым, вкусным и нужным при работе продуктом, даром местной природы...» [3, с. 158].
Миссионер заметил, что рыболовство также является для индийцев средством к существованию. Добытый улов они переносят, как и другие тяжести, на голове в населенные пункты, иногда находящиеся в 30 милях от берега [3, с. 159]. На Мадрасе монах обратил внимание на необычных рыбаков, которые уходили далеко в море на нескольких соединенных друг с другом бревнышках с парусом: «Выйдя на берег, они разбирают бревна и выбрасывают их на пляж сушиться, чтобы при следующей поездке снова спустить их в воду и строить плот. При сильной волне, рыбаки, конечно, бывают постоянно мокрыми, но жара их тут же подсушивает. Ловят они обычно 3–4 рыбы, фунтов по 10–15 каждая» [3, с. 352–353].
Подспорьем в жизнеобеспечении для индийцев был сбор меда диких пчел. Действие происходило ночью. Для этого «резервуар с медом» прокалывали палкой с привязанной веревкой, по которой потом стекал мед. Пчел же в это время «палили огнем» [3, с. 103–104]. Были в Индии и «правительственные» пчеловоды [3, с. 104].
Довольно подробно описаны в книге архимандрита Андроника особенности некоторых ремесел в Индии. Так, индийцы были мастерами по изготовлению деревянной мебели (особенно хорошей была мебель из тика), украшений и утвари из металлов: «При мне индусы сами делали медные сосуды разных форм и размеров, украшения из меди, серебра и золота волам и людям, но больше всего для женщин. Можно было дешево купить хорошие ножи, звонки, замки местной кустарной работы» [3, с. 110, 284]. Архимандрит Андроник акцентирует внимание на «большой разнице» между рабочими специалистами по дереву, каменщиками и кузнецами. По его мнению, мастера работы по дереву более искусные и ответственные, чем каменщики: «…Столяры и плотники очень точны в работе и гораздо честнее других рабочих. Работая по большей части только стамесками, сидя на земле, они ступнями или пальцами ног прижимают дерево к лежащей на земле доске, выполняя работу замечательно точно по какому угодно чертежу» [3, c. 283]. С другими рабочими ему приходилось гораздо труднее: «Нужно внимательно следить, чтобы все было сделано, как нужно, иначе легко будет испорчен материал, и работа не будет выполнена» [3, с. 283]. Также в Индии был распространен тяжелый неквалифицированный труд, часто так работали и дети [3, с. 160]. Русский миссионер почти не описывает орудий труда индийцев, исключение составляет «кундали» – «мотыга с узким лезвием, фута полтора длиной, и с длинной ручкой. Подняв высоко над головой, рабочий с большой силой ударяет ею в землю. Кундали глубоко разрыхляет землю, перерезает и выкорчевывает корни» [3, с. 154].
Характер индийцев
Довольно много внимания в книге архимандрита Андроника уделено описанию характерных черт поведения индийцев. Так, уже на первых страницах встречается заметка о его попутчиках, сопровождающаяся выводами в целом о характере индийцев: «брамине», обладавшем огромным самолюбием, «которое, как оказалось, весьма характерно для индусов высших каст» [3, с. 16], и «индусе-магометанине», говорившем о желании своем и своих близких принять христианство, но впоследствии так и не ответившем на обращение русского миссионера: «Судя по последующему опыту, такие обещания, которые можно не исполнить, делаются ради какой-нибудь выгоды или просто для приятности разговора» [3, с. 17]. Русские поселенцы, прожившие в Индии уже не один год, предупреждают недавно приехавшего русского монаха о «вороватости» и нечестности местного населения [3, с. 27, 28]. В более поздний период своего пребывания архимандрит Андроник сам неоднократно сталкивался с кражами: «Громадным злом в отношении фруктов и вообще, с которым я оказался не в силах бороться, является воровство. …Воровство бывало таково, что я всегда рассчитывал на потерю значительной части урожая. …Бывали случаи воровства пищи из горшков даже во время варки; воровали пуговицы от одежды, фитили из керосиновой лампы. Хорошо, что некоторых вещей, как, например, орудия для обработки земли и для работы с камнями, воры не брали. Особенно они охотились за деньгами» [3, с. 124–125]. Он неоднократно приводит и другие примеры воровства [3, с. 30 и др.]. Нечестность, по мнению монаха, была одинаковой и среди язычников, и среди христиан: «Нечестность в материальных делах – это, пожалуй, область, где – в плохом – христиане и язычники Индии походят друг на друга больше всего. Но и в этой области, как и в семейных отношениях, влияние христианства огромное» [3, с. 266–267]. Очень коротко архимандрит Андроник говорит об обманувшем его прихожанине: «Я дал небольшой задаток Георгию за дом, но ни дома, ни задатка никогда не получил» [3, с. 107]. У русского монаха воровал даже его работник Самуил [3, с. 133]. Однако обращает на себя внимание история, рассказанная знакомой архимандрита А.К. Ирбе, считавшей индийцев нечестными и получившей вместо заказанного совсем другой сорт яблонь. Архимандрит Андроник по этому поводу замечает, что в Индии «у частных садоводов нет слова “нет” для покупателей» [3, с. 28]. Вероятно, индийские продавцы, не желая показаться невежливыми, предпочитали дать любую замену товару, чем отказать в продаже. Возможно, именно разница в культурных стереотипах поведения могла сыграть негативную роль в восприятии индийцев европейцами. В этом отношении заметки русского монаха перекликаются с наблюдениями Афанасия Никитина, высказывавшего очень настороженное отношение к индийским нравам и обычаям: «А здесь люди все черные, все злодеи, а женки все гулящие, да колдуны, да тати, да обман, да яд, господ ядом морят» [15].
Также миссионер сделал вывод о необычайной лени индийцев: «…Работать индусы не любят, и это причина многих их бед. При каждом ударе киркой они издают стон, и когда можно не работать – на чужой ли работе или у себя дома, – они не работают» [3, с. 29–30]. В пример он привел «характерный для индусов случай», когда рабочие, не выполнившие задание хозяина фермы, изображали усталость и хотели еще получить вознаграждение за труд [3, с. 31].
Однако архимандрит Андроник вспоминает об индийцах очень тепло, особенно подчеркивая их бескорыстное гостеприимство: «Можно было бы много сказать об особенностях индийского гостеприимства, в общем же, язычники индусы, и индийские христиане – люди общительные и гостеприимные. …Несмотря на мою бедноту, гостеприимство мне оказывали от чистого сердца, о чем я вспоминаю с глубокой благодарностью» [3, с. 280]. Индийцы любопытны и общительны: «Первое время, часто целыми группами, приходили индусы смотреть, как я живу» [3, с. 108]; «Жители Индии – люди общительные и любят бывать вместе, разговаривать и слушать других» [3, с. 268]. Архимандрита Андроника интересует влияние христианства на недавних язычников. В противовес наблюдениям о всеобщей нечестности индийцев он замечает образцовые положительные качества индийцев-христиан: «Особенно ценное качество христианских отношений – правдивость, отсутствие лжи; и этому нужно было бы многим поучиться у индийских христиан, равно как и христианскому уважению личности. При разговоре с ними их можно бранить за лень, за всякое неуменье и упущения при условии, что этим не переходятся границы уважения к личности собеседника» [3, с. 268–269]. Миссионер подробно описывает состояние Православной Сирийской Восточной Церкви в Индии: церковные таинства и требы, дисциплину, духовенство, паству, праздники, посты, образование и т.д., и старается во всем увидеть позитивное воздействие христианства на обычаи индийцев.
Общественное устройство, религиозность, брачные обычаи
В понимании архимандрита Андроника в Индии существуют высшие и низшие касты. Он рассказывает о знакомстве в начале своего путешествия с представителем высшей касты – «брамином», отличавшимся «огромным самолюбием» [3, с. 16], о низших кастах упоминает, говоря, что «православное христианство и другие вероисповедания больше принимают язычники низших каст, которых индусы до времени Ганди никуда к себе не пускали, да и которые теперь-то здесь не в почете» [3, с. 266]. Еще одна группа в индийском обществе – каника-рены, названные о. Андроником «первобытными людьми»: «Даже по сравнению с бедными индусами, каникарены стоят на очень низкой ступени цивилизации: мужчины и женщины ходят совсем голые; не имея элементарной медицинской помощи, взрослые и, особенно, дети умирают в большом количестве, когда их легко можно было бы спасти» [3, с. 137]. Упоминается «военная каста найеров».
Индийцы религиозны, в чем неоднократно убеждался архимандрит Андроник [3, с. 30]. Однажды его поразило такое наблюдение: «В юго-западном углу фермы, под манго в несколько обхватов, стояла индусская молельня с идолами, перед которыми часто зажигался огонь. В мою бытность на ферме я видел, как, собрав урожай рагги, рабочие слепили из навоза маленьких идолов и расставили на куче зерна. Вообще индусы религиозны – это приходилось часто наблюдать» [3, с. 30]. Русский монах обратил внимание и на характерную черту индийских воззрений – веру в реинкарнацию; эта вера может сильно повлиять на поведение человека: «Несколько предсказателей пророчили, что в следующее перевоплощение он будет свиньей, поэтому он ведет строго аскетический образ жизни, чтобы в будущем не было плохо. Он спит на твердой постели, ест только один раз в сутки. Встав утром, он берет кундали и идет работать» [3, с. 154]; «Веря в переселение душ, индусы стараются не убивать обезьян и змей, вообще ничего живого. Если обезьяны начинают сильно вредить, их ловят, …отвозят на поезде или автомобиле далеко в лес и там выпускают на волю» [3, с. 120].
Видимо, у индийцев существовала высокая потребность в духовной жизни, чем монах объясняет разнообразие религий, распространившихся в Индии и соединяющихся у местных жителей с природным любопытством и общительностью: «Разноверное окрестное население чувствовало некую духовность моего жития. Со временем моя гора стала местом паломничества для молитвы» [3, с. 161]. Примкнувшие к православию индийцы порой демонстрировали изрядное религиозное усердие, которое все же легко могло смениться вполне земными интересами, как это произошло, например, с помощником архимандрита Андроника Самуилом, который даже выражал желание стать монахом, но стал воровать и тайно женился [3, с. 126–133]. Однако архимандрит Андроник отмечает в индийцах «жажду святости, христианского мира и правды» и утверждает, что слышал в Индии «больше, чем где-либо, исповедания себя христианами, заявления о желании по-христиански жить и воспитывать детей, свидетельства о знании сущности христианства»: «И это мне доводилось слышать и от старца священника, и от крестьянина, и от учителя, и от банкира. Я бывал у них часто, и свидетельствую об этом» [3, с. 267].
Как отмечает о. Андроник, «особенно характерный факт для индусов – зависимость церковных дел от материальных» [3, с. 55] и «материализм» индийцев: «При бедности и неактивности, при большом материализме жителей Индии, для многих принять религию господ страны, – значило получить службу или работу, иметь привилегии при воспитании детей, пользоваться защитой властей. Соблазн, на который нередко идут многие. В таких случаях низменные побуждения часто стараются прикрыть высокой идеологией» [3, с. 70]. Инославные миссионеры тоже вели свою работу, нередко опираясь на материальный интерес местных жителей: «Легче обращать внекастовых, бедных, отверженных, но, конечно, больше интереса представляет обращать православных, подходя к ним, как друзья и благодетели, соблазняя их материальными и другими земными выгодами» [3, с. 288].
В брак в Индии вступали очень рано. По словам работника о. Андроника Самуила, его брат Куты, которому на вид было 10–11 лет, уже три года был женат [3, с. 140]. Архимандрит Андроник был знаком с семьей сирийских христиан-индийцев, где выдавали замуж сразу несколько сестер, среди которых и девочку 10–12 лет [3, с. 233]. Было распространено многоженство: «Эти поля… все принадлежат одному хозяину-индусу… У него 11 жен, которые постоянно из-за него ссорятся между собою» [3, с. 154]. Нередко встречалось и многомужество: «Наряйянен говорил, что их мать стара и ей нужна помощница. “Мы бедные и поэтому не можем взять двух жен, поэтому женились двое на одной”» [3, с. 154]. Далее архимандрит рассказал о семействе кузнеца по золоту, у которого «своих достатков было мало»: «Три сына Сорнам Коллен были нормально женаты и имели детей; дочь же, здоровую и красивую девушку, когда ей было лет 20, отец выдал замуж за четырех братьев другого семейства» [3, с. 155]. В другом случае брат, имея на содержании несколько взрослых сестер и желая поправить свое материальное положение, продал одну из них [3, с. 155–156]. «При мне гражданские власти Индии начали борьбу с браками малолетних, – пишет о. Андроник, – но это им не всегда удавалось» [3, с. 233].
Заключение
Итак, мы видим в книге архимандрита Андроника (Елпидинского) портрет Индии, нарисованный яркими, сочными красками, выражающими субъективное восприятие автором индийской культуры и общества. Весьма реалистично и без прикрас архимандрит Андроник рисует картину общества, в котором еще существует кастовая система, население бедно, очень многим приходится тяжело работать. Христианские убеждения Андроника особым образом подсвечивают его восприятие индийской реальности: индийские бедняки, живущие одним днем, описываются у него евангельским эпитетом «птицы небесные». Также миссионер включил в книгу заметки о характере индийцев, явно оценивая их с христианских позиций и, по-видимому, будучи склонным к стереотипам, подчеркивал их «вороватость», лень и описывал недостатки брачных обычаев, допускающих многоженство, многомужество и браки малолетних. В целом он делает особый акцент на описании религиозной ситуации в Индии. Тем не менее, несмотря на элементы субъективности и индивидуальную специфику восприятия архимандрита Андроника, его работа содержит ряд ценных сведений о повседневном быте индийцев: простые дома, которые часто напоминают хижину, нехитрая домашняя утварь, скромное питание, основу которого составляют фрукты, рис и приправы. Он не заостряет внимание на этнографических подробностях при описании культуры Индии, совершенно не интересуясь, например, традиционными наименованиями предметов быта и орудий труда, однако его книга дает довольно полное представление об Индии первой половины ХХ в. и может быть важным дополнением к источникам для изучения индийской культуры.
Список литературы Индия глазами русского миссионера архимандрита Андроника (Елпидинского)
- Альбедиль М.Ф. Христианство в Индии // Христианство в регионах мира. СПб., 2002. С.6-18.
- Августин (Никитин), Архимандрит. Русский миссионер в Индии. Архимандрит Андроник (Елпидинский) // Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Avgustin_Nikitin/ russkij-missioner-v-indii-arhimandrit-andronik-elpidinskij/
- Андроник (Елпидинский), Архимандрит. Восемнадцать лет в Индии. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012.
- Бабочкина Я.О. Роль индуизма в социальной и политической жизни в Индии // Novaum.ru. 2017. № 10. С. 363-366.
- Волошина О.А. Индийский мечтатель (о путешествии Герасима Лебедева в Индию) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2013. № 5. С. 114-129.
- Горохов С.А., Дмитриев Р.В. Формирование конфессионального пространства Индии: опыт историко-географического анализа // Человек: образ и сущность. 2019. № 1. С. 79-96.
- Денисов Д.В. К вопросу о русско-индийских литературных связях (на материале древнерусской литературы) // Наука и культура России. Материалы VIII Международной научно-практической конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Самара: Самарский государственный университет путей сообщения, 2011. С. 246-249.
- Загородникова Т.Н. Начало изучения современной Индии в России. Минаев И.П. // Ориенталистика. 2018. Т. 1. № 1. С. 82-97.
- Кислова Л.С., Драчева С.О. Образ Индии в травелоге Марии Арбатовой «Дегустация Индии» // Филология и культура. 2016. № 3. С. 107-112.
- Смирнова Е.В. Религия и политические технологии в Индии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015.№ 12-1. С. 189-194.
- Соловьев С.В. Исторический обзор распространения христианства в Индии // Поволжский вестник науки. 2020. № 2. С. 11-14.
- Солодкова О.Л. Рост христианской общины в Индии и Хиндутва // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2015.№ 3. С. 30-39.
- Успенская Е.Н. Антропология индийской касты. СПб.: Наука, 2010.
- Филь Ю.С. Особенности христианизации Северной Индии в колониальный период // Colloquium-Journal. 2018. № 8-5. С. 12-14.
- Хождение за три моря Афанасия Никитина // Электронные публикации Института русской литературы РАН. URL: http://lib. pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068
- Хрущева П.В., Лобанов С.В. Индийские тексты и традиции на российской почве // Актуальные вопросы современной науки. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. Нефтекамск: Наука и образование, 2015. С. 95-102.