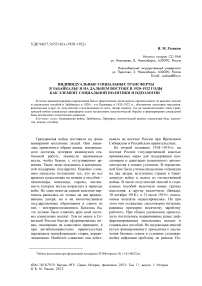Индивидуальные социальные трансферты в Забайкалье и на Дальнем Востоке в 1920-1922 годы как элемент социальной политики и идеологии
Автор: Рынков Вадим Маркович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирована нормативная база и практическая деятельность органов власти по выплате пенсий и социальных пособий в Забайкалье в 1920 г. и в Приморье в 1920-1922 гг., обозначены категории населения, включенные в круг их получателей и исключенные из него. Автор показал, что на заключительном этапе Гражданской войны социальные трансферты стали механизмом идеологической борьбы и формирования социальной базы несоветских политических режимов.
Гражданская война, забайкалье, приморье, политический режим, социальная база, идеология, пенсии, пособия
Короткий адрес: https://sciup.org/14737647
IDR: 14737647 | УДК: 94(57.54/55+63)
Текст научной статьи Индивидуальные социальные трансферты в Забайкалье и на Дальнем Востоке в 1920-1922 годы как элемент социальной политики и идеологии
Гражданская война поставила на грань вымирания миллионы людей. Они лишились привычного образа жизни, материального достатка, потеряли казавшуюся стабильной работу, покинули насиженные места, чтобы бежать с отступавшими армиями. Такие люди нуждались в материальной поддержке государства. Вдвойне сложным оказалось положение тех, кто во все времена существовал на пенсии и пособия – пенсионеры, инвалиды, сироты, численность которых всегда возрастает в периоды войн. Но сама некогда единая властная вертикаль распалась не только на два враждовавших лагеря, но и на многочисленные государственные образования в одном из них – контрреволюционном. Казалось бы, это должно было означать крах всей системы социальных выплат. Тем не менее в Советской России быстро сформировалась новая, основанная на классовом принципе, а при антибольшевистских правительствах переживала трансформацию старая, дореволюционная. Наиболее слаженно она дейст- вовала на востоке России при Временном Сибирском и Российском правительствах.
Во второй половине 1918–1919 гг. на востоке России государственной властью принимались меры для поддержания пенсионеров и адаптации пенсионного законодательства к новым условиям. В нормативной базе были учтены разделение сограждан на два лагеря, вступление страны в Гражданскую войну и выход из отечественной войны. В число получателей пенсий и социальных пособий включили новые группы населения, а другие исключили. Дважды, 30 октября 1918 г. и 31 июля 1919 г. пенсионные выплаты индексировались. Но при этом они оставались смехотворно низкими, равняясь примерно месячному заработку рабочего. При общем увеличении происходило постепенное выравнивание ранее дифференцированных пенсионных выплат и социальных пособий. Но индексация пенсий путем фиксированного процентного увеличения базовых ставок в условиях усиливавшейся инфляции проблему не решала. По-
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00222а).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 1: История © В. М. Рынков, 2012
этому Временное Сибирское и Российское правительства ввели надбавки на дороговизну к пенсиям. При этом шли уже проторенными путями – выравнивающая тенденция и регулирование выплат с помощью череды надбавок были характерны и для заработной платы государственным служащим и рабочим казенных предприятий. Данный аспект их внутренней политики уже рассматривался ранее автором [Рынков, 2007; 2008. С. 192–206].
В конце 1919 – начале 1920 г. в Сибири повсеместно установилась советская власть. Но в Забайкалье Гражданская война продолжалась до осени 1920 г., а на Дальнем Востоке – до осени 1922 г. Причем здесь параллельно существовали Дальневосточная республика (ДВР), в которой доминировали и определяли основы внутренней и внешней политики большевики, и ряд несоветских политических режимов. Именно их практика социального обеспечения, ранее в историографии никогда не рассматривавшаяся, станет предметом анализа настоящей статьи.
До конца лета в 1920 г. в восточных районах Забайкалья действовал Главнокомандующий всеми вооруженными силами Российской восточной окраины атаман Г. М. Семенов. Он являлся приемником власти адмирала А. В. Колчака и опирался на колчаковское законодательство. В Приморье же с января 1920 по декабрь 1921 г. действовало коалиционное Временное правительство – Приморская областная земская управа (с апреля 1920 г. – Временное правительство Дальнего Востока), в котором главенствующее положение занимали социалисты, державшие курс на объединение с ДВР. В декабре 1921 г. ему на смену пришло Приморское областное управление ДВР, деятельность которого, однако, слабо затронула жизнь в регионе. Но в мае 1921 г. в результате государственного переворота к власти пришло Временное Приамурское правительство, поставившее цель не допустить советизации региона и возобновить вооруженную борьбу с Народно-революционной армией ДВР. С августа по октябрь 1922 г. власть принадлежала правителю Приамурского земского края М. К. Дитерех-су, консервативно-монархическому диктатору.
В конце 1919 – начале 1920 г. в Забайкалье прибывали десятки эшелонов с эвакуи- рованными, среди которых было много больных и раненых, членов семей военнослужащих и государственных чиновников из Сибири. Стремительное отступление колчаковской армии поставило их в тяжелее положение. Восточное Забайкалье не имело финансовых ресурсов, позволявших обеспечить оплату всех государственных обязательств по социальным трансфертам, не только для вновь прибывших, но и для забайкальцев.
Но это не означало, что не предпринимались усилия для поддержания материального положения нуждавшихся. По законодательству Российского правительства семьи призванных на военную службу должны были получать два вида пособия – денежное в размере 100 руб. и продуктовый паек, который тоже выдавали в денежном эквиваленте. В связи с инфляцией эти выплаты настолько обесценились, что перестали выполнять свою функцию. Для смягчения положения семей призванных в начале 1920 г. в городах Восточного Забайкалья и Дальнего Востока вместо денежных выплат начали производить выдачу набора продуктов, эквивалентного солдатскому пайку 1.
Семеновская администрация не могла, да и не стремилась обеспечить должным образом всех нуждавшихся в поддержке, но пыталась реагировать на изменившуюся ситуацию, обозначив тех, кто заслуживал особую заботу. Имелись в виду лица, пострадавшие в борьбе с большевиками, прежде всего в Забайкалье. Одиннадцатого февраля 1920 г. атаман Г. М. Семенов выделил отделу призрения Управления внутренних дел фонд в 50 тыс. руб., затем еще 20 тыс. руб. на раздачу единовременных безвозвратных пособий. Значительные суммы были получены в виде благотворительных взносов. Деньги выдавались безработным служащим, отставным чиновникам и офицерам на лечение, вдовам на образование детей 2. Наконец, 26 мая 1920 г. военное совещание при помощнике главнокомандующего по военной части постановило выдавать пособия в размере одно-двух-месячного оклада военнослужащим, потерявшим свое имущество при эвакуации на восток. Остро нуждавшимся предлагали получить одежду и обувь из интендантских запасов. Особо оговаривалось, что семьям, оказавшимся вдали от своих родных – военнослужащих, сохранялся общий порядок начисления пособий, а родным безвестно отсутствовавших военнослужащих следовало выделять пособия в половинном размере. Военное совещание подтвердило в качестве общей нормы снабжение всех членов семей военнослужащих солдатским продуктовым пайком, а не денежным его эквивалентом 3. Тем не менее 12 июля 1920 г. Совет управляющих ведомствами Российской восточной окраины выделил для этих целей 36 млн руб. 4 Возможно, это сделали, чтобы покрыть прежний долг или невыданный натуральный паек.
Летом 1920 г. власти Восточного Забайкалья попытались в очередной раз избавиться от неудобных надбавок, проведя новую кардинальную индексацию базовых ставок. В частности, приказом помощника Главнокомандующего по гражданской части № 168 от 3 июня 1920 г. с 1 мая все надбавки к пенсиям «по случаю дороговизны» отменялись. Новые пенсионные оклады определялись, исходя из дореволюционных размеров пенсий. Для получавших до 50 руб. в год ее размер увеличивался в 100 раз, далее размер индексации сокращался, и обладатели дореволюционных пенсий свыше 3 тыс. руб. в год получали индексацию всего в 10 раз 5. Едва ли момент для подобных нововведений был выбран удачно. В последние месяцы существования семеновского режима инфляция была настолько высока, что любая фиксация точных размеров социальных выплат приводила к их обесцениванию в считанные недели.
Для Г. М. Семенова была характерна популистская риторика. Он намеренно разыгрывал патерналистскую карту, стараясь показать, что государство и лично Главнокомандующий не оставят «борцов против советской власти» и их родных. Официальный печатный орган «Вестник Забайкалья» в начале 1920 г. переопубликовал множество постановлений Российского правительства, касавшихся порядка начисления пенсий и пособий, деятельности патронируемых государством попечительских организаций (Красный Крест, Сибирский благотворительный комитет и др.) и порядка выделения им средств, хотя большинство этих норм не действовали. Главнокомандующим всеми вооруженными силами Российской восточной окраины, его помощниками по военной и гражданской части была выпущена серия приказов о назначении персональных пенсий 6. Не играя роли в материальном обеспечении нуждавшихся, которых в регионе оставалось десятки тысяч, они были откровенно рассчитаны на пропагандистский эффект.
В конце 1919 г. забайкальская пресса с помпезностью сообщала, что, заботясь о семьях призванных на военную службу, атаман открывает три бесплатные столовые для продовольствия на тысячу человек. Обеды обещали предоставлять за ничтожную плату, а наиболее нуждающимся – бесплатно 7. Такие столовые действительно открылись в Чите в начале 1920 г. и функционировали до августа. В них ежедневно по сниженным ценам кормились беженцы, пенсионеры, малообеспеченные служащие и члены их семей. Но основную массу получателей льготного питания составляли военные и государственные служащие. Причем администрация Семенова не построила новые пункты питания, а обязала владельцев нескольких уже действовавших предоставлять обеды по специальным удостоверениям. Расходы потом компенсировались из регионального бюджета. Делалось это неаккуратно и с большим опозданием, что в условиях стремительной инфляции оборачивалось своеобразной формой принудительного займа и разоряло хозяев. Так атаман занимался благотворительностью за счет частных лиц. Причем данная мера осуществлялась как государственная, но прессой подавалась как личная инициатива атамана, «жертвователя» и «радетеля» за интересы обездоленных 8.
В Приморье в 1920 г. характер политической власти был совершенно иным. С одной стороны, она взяла негласный курс на постепенную советизацию региона, с другой – не собиралась полностью отказываться от принципа правопреемственности, разом отмахиваясь от всех социальных обязательств свергнутого предшественника. Поэтому возникала ситуация двойственности проводимого курса, идеологической нестыковки предпринимаемых шагов. Шестнадцатого марта 1920 г. отпустили 500 тыс. руб. на пособия увечным воинам и 152 557 руб. на выплату эвакуационного пособия прибывшим из Омска служащим отдела торговых портов и мореплавания. Двадцать пятого марта выделили 2,5 млн руб. на пособия семьям призванных. Но 16 марта 1920 г. куда большую сумму – 3 млн 625 тыс. – выделили на обмундирование и отправку по домам политических и уголовных заключенных из тюрем. Двадцать пятого марта 1920 г. приморская областная власть изыскала 1 млн руб. для выдачи пособий сучан-ским служащим, уволенным прежней властью, а 23 апреля еще 2 млн для «безвозвратных пособий сучанским рабочим, пострадавшим от Гражданской войны» 9. Двадцатого мая 1920 г. в отмену постановления Российского правительства от 3 апреля 1919 г. возобновили выплату пособия семьям призванных до 1 января 1918 г., главы которых числятся в плену 10. Это возвращало в круг получателей пособий, тех, кто устроился в Красную армию или ушел в партизанские формирования. Первого июня 1920 г. Временное правительство Дальнего Востока отпустило 3 млн руб. для организации отправки домой инвалидов 11. Имелись в виду нуждающиеся в помощи для выезда в Советскую Россию. Таким образом, было заявлено намерение нового регионального правительства опереться на группы населения, находившиеся в оппозиции колчаковскому режиму. Отношение к ним обозначалось в том числе и путем выплат социального характера. Кроме того, здесь присутствовала идея национального примирения. Была и другая причина, требовавшая специальных решений о выделении средств. Всю сумму пенсий и пособий, причитавшихся гражданам по действовавшему законодательству, власть не имела возможности выплачивать ввиду отсутствия средств в региональной казне. Поэтому выделялись приоритетные для нового режима группы, тогда как в роли париев оказались ветераны и пенсионеры «колчаковского призыва».
Между тем регион непрерывно наводнялся беженцами, в числе которых находилось немало военных, гражданских чиновников и членов их семей, давно не получавших предусмотренных законом выплат. В Приморье в 1920–1921 гг. существовала огромная задолженность по социальным выплатам, и с каждым месяцем она возрастала. Одиннадцатого августа 1920 г. Временное правительство Дальнего Востока приняло закон о порядке начисления пенсий. Этот нормативный акт устанавливал коэффициенты эквивалента всех прежних пенсионных окладов и социальных пособий прожиточному минимуму. Так, пенсии могли составлять от 0,4 до 1,5 прожиточных минимумов, пособие по смерти – 1,5 и так далее. Ввиду того что эмиретальные кассы в результате обесценивания рубля обанкротились, постановление предполагало, что все пенсионные выплаты будут производиться напрямую из казначейства. На недавно прибывших в Приморье (после 12 июня 1920 г.) закон не распространял никаких пенсионных и иных социальных выплат. Так, исключалась возможность целенаправленного приезда в регион потенциальных пенсионеров. Первоначально эта временная мера вводилась для выплат в августе и сентябре 1920 г., но потом продлевалась до конца года 12. В результате в число получателей пенсий и пособий не вошли военнослужащие, прибывшие в Приморье через Манчжурию с остатками потерпевшей поражение семеновской армии, и члены их семей.
Двадцать шестого мая 1921 г. во Владивостоке установилась власть Временного Приамурского правительства. Не удивительно, что уже на втором месяце деятельности оно оказалось завалено ходатайствами о выделении пенсий и пособий. Летом 1921 г. большинство из них отклоняли. Двадцать седьмого июня 1921 г. даже учредили специальную комиссию для выяснения правильности претензий на право получения пенсий 13. Осенью, наоборот, многочисленные просьбы о выдаче пособий увечным воинам или вдовам военнослужащих преимущественно удовлетворяли, утверждая им выплаты в 50–150 и даже в отдельных случаях 250 зол. руб. – солидные по тем временам деньги, равные годовому прожиточному минимуму. Вопросы об оплате лечения больных и раненых военных, счетов госпиталей обычно передавали на самостоятельное решение военного ведомства, которое старалось поддержать своих подопечных. Особенно легко члены правительства соглашались на льготы, не связанные с прямыми выплатами. Так, осенью 1921 – весной 1922 г. десятками удовлетворялись просьбы о принятии на счет казны обучения сирот в средних и высших учебных заведениях. До апреля 1922 г. вопросами о предоставлении казенной платы за обучение занимался отдел призрения ведомства управления внутренних дел, а в дальнейшем их передали в управление военно-учебных заведений 14. Только 26 декабря 1921 г. правительство разрешило обучение за казенный счет 57 студентов Дальневосточного университета, 38 студентов политехнического института, 102 учеников гимназий 15. Правительство извлекало явную выгоду из ситуации – ведь по закону обучавшиеся за счет казны дети и подростки лишались права на пенсию. А средств за обучение правительство не перечисляло. Уже 8 февраля 1922 г. оно вынуждено было разбирать вопрос о бедственном положении учебных заведений, не получающих уплату за «ка-зеннокошных» учеников и студентов 16.
Члены правительства понимали необходимость установления нормативной основы для сокращения социальных расходов. Двадцать первого января 1922 г. был принят «пакет» законов о пенсиях и единовременных пособиях для гражданских и военных служащих и членов их семей. Новое законодательство в целом восстановило дореволюционные размеры и порядок начисления пенсий и пособий, подсчеты которых производились в золотых рублях. Право на пенсии и пособия имели только те, кто документально подтверждал отсутствие недвижимости и торгово-промышленных предприятий, могущих приносить доход. Специальная комиссия должна была произ- водить обследование материального положения просителя. Эта мера была введена как временная и чрезвычайная. Пенсии выплачивались только тем, кто имел на них право по законодательству, действовавшему до 1914 г., причем служил или работал до революции, либо в более позднее время не менее двух лет занимал должность, дававшую право на пенсию по дореволюционным законам. Оклады и чинопроизводство за время Первой мировой и Гражданской войн, с точки зрения законодателей, являлись следствием чрезвычайных обстоятельств и не могли служить базой для исчисления пенсионных выплат. Существовавшие до революции пенсионные льготы для служащих на территории Сибири и Дальнего Востока отменялись. Право на получение социальных выплат имели только те, кто служил или вышел в отставку на территории, подконтрольной Временному Приамурскому правительству, либо прибыл на эту территорию до 12 июня 1920 г. Эти ограничения не распространялись на военнослужащих, прибывших в составе воинских частей, а также получивших ранения и увечья. Независимо от сроков, в которые полагалось назначать пенсии в соответствии с законодательством или решением судов, начисления производились только с момента подачи письменного заявления. Это освобождало казну от обязанности выплачивать долг за прежние месяцы. Если получившие увечье на службе и производстве потеряли трудоспособность на 15 % и менее, пенсии не выплачивались.
Временное Приамурское правительство подтвердило привязку пенсионных окладов к минимальной заработной плате. При сорокакратной разнице между минимальными и максимальными дореволюционными окладами закон предусматривал лишь 3,5-кратную разницу между соответствующими пенсиями 17. Эта пропорция соответствовала действовавшей в то время шкале зарплат. Но если раньше низшие категории пенсионеров получали гарантированный минимум в 0,4 прожиточного минимума (120 руб. в год), то теперь выплаты им не должны были превышать дореволюционного оклада, но не менее 0,35 и не более 1,6 прожиточного минимума. Правда, шкала прогрессии меня- лась таким образом, что основной массе пенсионеров выплаты сокращались на 30– 50 % 18. Следует напомнить, что прожиточный минимум в 1922 г. стал чисто символической искусственной категорией и не оправдывал своего названия. Логику власти, всеми силами старавшейся ограничить приток новых иждивенцев казны, изыскать благовидные предлоги для лишения выплат отдельных категорий граждан, понять не трудно. Даже после принятых ограничений, Временному Приамурскому правительству приходилось содержать около 5 тыс. пенсионеров, из которых 2 100 – вдовы и сироты военнослужащих.
Рассмотренный аспект взаимодействия власти и общества позволяет сделать выводы, ценные для характеристики несоветских политических режимов на заключительном этапе Гражданской войны. Во-первых, оказавшись в сложнейших условиях, лишившись практически всех источников дохода, все региональные правительства находили возможность для хотя бы частичного продолжения пенсионных и социальных выплат. Конечно, они уже не представляли собой стройную и взаимосвязанную систему. Скорее это были отдельные ее элементы, которые в силу обстоятельств продолжали действовать, возобновлялись или вновь появлялись. Попытка вернуться к системной реализации государственных социальных трансфертов в Приморье в январе 1922 г. не имела материального подкрепления. Во-вторых, именно в силу сложных условий, политическая власть искала способы и благовидные предлоги к сокращению социальных выплат, лишая права на пенсии и пособия многие категории населения, но в то же время проявляла определенную изобретательность, находя нетрадиционные варианты перекладывания части пенсионного бремени на общественность и имущие слои населения. В-третьих, усилилась идеологическая составляющая пенсионных и социальных выплат. Они становились идейнополитическим и социальным маркером, обозначавшим «своих» для действующего политического режима и отсекавших «чужих» от скудного ручейка социальных трансфертов. Одновременно это был механизм формирования социальной базы правящей власти и один из регуляторов взаимодействия с ней.
INDIVIDUAL SOCIAL TRANSFERS IN TRANSBAIKAL AND FAR EAST IN 1920–1922 AS A COMPONENT OF SOCIAL POLITICS AND IDEOLOGY