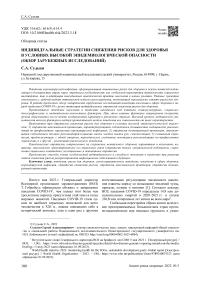Индивидуальные стратегии снижения рисков для здоровья в условиях высокой эпидемиологической опасности (обзор зарубежных исследований)
Автор: Судьин С.А.
Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk
Рубрика: Аналитические обзоры
Статья в выпуске: 3 (43), 2023 года.
Бесплатный доступ
Пандемия коронавирусной инфекции, сформировавшая повышенные риски для здоровья и жизни жителей подавляющего большинства стран мира, определила необходимость как глобальной перестройки деятельности социальных институтов, так и адаптации повседневных поведенческих практик населения к новым реалиям. Рядовые граждане столкнулись с задачей выбора оптимальной модели самосохранения, позволяющей максимально снизить риски для здоровья. В работе предложен обзор эмпирических зарубежных исследований поведения населения в сфере здоровья в период пандемии COVID-19 с целью типизации индивидуальных стратегий снижения рисков для здоровья. Протективное поведение населения в пандемию находилось под влиянием социокультурных, социально-демографических и индивидуально-личностных факторов. При этом влияние факторов микроуровня (возраста, уровня образования) могло иметь неодинаковый характер в различных странах. Высокий уровень медицинской грамотности являлся фактором выбора протективной модели поведения вне зависимости от иных характеристик. Выделяются три стратегии снижения рисков для здоровья в условиях высокой эпидемиологической опасности: 1) стратегия максимальной протекции, характеризующаяся соблюдением большинства медицинских рекомендаций по профилактике заражения коронавирусной инфекцией; 2) стратегия доминирующей протекции, отличающаяся соблюдением базовых рекомендаций (ношение маски, частое мытье рук, самоизоляция); 3) смешанная стратегия, предполагающая, с одной стороны, периодическое следование некоторым рекомендациям по профилактике заражения, а с другой - реализацию рискогенного поведения. Поведенческие стратегии, направленные на сохранение ментального здоровья, вариативны и включают, например, максимально ориентированные на социальные связи (стратегия поиска эмоциональной поддержки, сохранения социальных контактов), изоляционные и девиантные стратегии. Предложены способы учета особенностей индивидуального и семейного поведения в пандемию при решении задачи снижения рисков распространения инфекционных заболеваний в будущем.
Пандемия, риски для здоровья, самосохранительное поведение, поведение в сфере здоровья, коронавирусная инфекция, стратегии снижения рисков, стратегия максимальной протекции, стратегия доминирующей протекции
Короткий адрес: https://sciup.org/142239915
IDR: 142239915 | УДК: 316.62:: | DOI: 10.21668/health.risk/2023.3.18
Текст обзорной статьи Индивидуальные стратегии снижения рисков для здоровья в условиях высокой эпидемиологической опасности (обзор зарубежных исследований)
Пятого мая 2023 г. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Т. Гебрейсус официально объявил о завершении пандемии COVID-191, чем подвел итог более чем трехлетнему периоду присутствия этой темы в топах мировых новостей. Пандемия COVID-19 стала одним из наиболее серьезных испытаний для всего человечества в XXI в., навеки вписавшим себя в исторический контекст, став в один ряд с другими естественными регуляторами численности населения планеты наряду со вспышками эпидемий чумы, проказы, холеры и испанки [1]. Согласно докладу ВОЗ, пандемия COVID-19 определила 14,9 млн дополнительных смертей в 2020–2021 гг. и стоила 336,8 млн потерянных лет жизни во всем мире2.
Глобальная перестройка образа жизни вследствие предпринимаемых большинством стран противоэпидемических мер показала хрупкость и уязви-
Судьин Сергей Александрович – доктор социологических наук, доцент; заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (e-mail: ; ORCID: .
мость привычной картины мира перед лицом невидимой и непонятной опасности, заставила задуматься о месте, роли и возможностях человека в системе его взаимоотношений с окружающим миром.
Пандемия стала блестящим примером негативных последствий глобализации, дав новые аргументы ее противникам и запустив новый виток дискуссии в научном и повседневном дискурсе [2]. Скорость распространения вируса в мире наглядно продемонстрировала плотность социальных связей, глубину экономических, культурных и политических взаимозависимостей в глобальном человеческом сообществе, а его опасность убедила мир в необходимости хотя бы на время объединить усилия для борьбы с общей угрозой.
Социально-политические аспекты пандемии нашли выражение в выборе того или иного противоэпидемического режима на уровне целых государств – от тотальной изоляции и жестоких санкций за ее нарушение по примеру Китая до попыток сформировать естественным путем своеобразный «коллективный иммунитет» на фоне минимальных социальных ограничений и относительно вяло протекающей вакцинации. Различные модели борьбы с пандемией COVID-19 имели неодинаковое влияние на показатели заболеваемости и смертности населения [3].
Пандемия вновь обратила внимание человечества на проблему социального неравенства, наглядно продемонстрировав бо́льшую уязвимость перед болезнью представителей традиционно депривиро-ванных социальных групп и слабых в социальноэкономическом отношении стран [4].
С первых дней пандемии вирус COVID-19 обнаружил удивительную способность потенцировать опасность имеющихся проблем со здоровьем, в обычной ситуации лишь незначительно осложняющих жизнь пациентов. Такие диагнозы, как ожирение или сахарный диабет, в комбинации с коронавирусной инфекцией превращались в мощный фактор риска здоровью, грозящий летальным исходом или очень сложным течением, лечением и неблагоприятным прогнозом [5, 6]. В отсутствие действенных механизмов государственной помощи проблема личной ответственности за свое здоровье обозначилась как никогда остро. Понимание комплексного характера проблемы актуализировало появление принципиально новых паттернов здоровьесберегающего поведения, носящего протективный характер не только в отношении непосредственно COVID-19, но и сопутствующих диагнозов.
Цель исследования – типизировать индивидуальные стратегии снижения рисков для здоровья, реализуемые населением в условиях высокой эпидемиологической опасности. Используя результаты зарубежных исследований, мы постараемся ответить на ряд ключевых вопросов: каким образом пандемия
COVID-19 изменила картину самосохранительного поведения во всем мире? В какой степени медицинские рекомендации по профилактике заболевания стали частью нового образа жизни? Какие социально-демографические переменные оказали наибольшее влияние на принятие рекомендаций по снижению риска и наоборот? И, наконец, какие классические и современные теории самосохранительного поведения оказались наиболее релевантными для объяснения этих процессов?
Необходимо отметить важное, на наш взгляд, обстоятельство, делающее эту задачу более сложной, чем могло бы показаться на первый взгляд. Несмотря на тяжесть последствий для мира в целом, пандемия оказалась все же достаточно стремительным, многоаспектным и многоликим процессом. Результаты исследований, проведенных в первые фазы пандемии, могут радикально отличаться от данных, получаемых на более поздних этапах, когда степень воспринимаемого риска стала значительно выше, а исследования – более фундаментальными.
Социально-демографические факторы про-тективного поведения. Основной концептуальной схемой, позволяющей зарубежным исследователям объяснять индивидуальные выборы стратегии снижения рисков для здоровья, трансформацию образа жизни и приверженность медицинским рекомендациям в ходе пандемии, стала теория запланированного поведения И. Айзена [7]. Одна из ключевых категорий данной концепции – воспринимаемый поведенческий контроль – отражает субъективную сложность соблюдения тех или иных медицинских рекомендаций и в конечном счете определяет поведенческий паттерн. Другими переменными, вносящими вклад в его формирование, являются субъективные нормы, поведение социального окружения и культурные особенности конкретного общества. Приверженность индивида профилактическому поведению и анализ факторов, способствующих его формированию, стали первой и наиболее важной исследовательской проблемой в рамках социологии медицины эпохи пандемии.
Принадлежность COVID-19 к респираторным инфекциям позволила сформировать четкие и универсальные рекомендации, позволяющие затормозить ее распространение. Среди таковых: носить защитную маску, часто мыть руки, регулярно дезинфицировать поверхности, использовать санитай-зеры, не дотрагиваться до лица, кашлять в зону локтевого сгиба, соблюдать социальную дистанцию и оставаться дома в случае заражения3. Несмотря на очевидность и простоту этих рекомендаций, их соблюдение оказалось весьма проблематичным. Например, долгосрочное поддержание социальной дистанции или социальной изоляции может оказаться сложной задачей, поскольку люди адаптируются к риску, борются с чувством одиночества и стремятся вернуть жизнь в привычное русло, отказываясь от защитных мер [8].
В исследовании группы ученых из двух научных центров Флориды (США) была предпринята попытка изучить связь между воспринимаемым поведенческим контролем, установками и субъективными нормами и тем, практикуют ли люди все вышеперечисленные виды профилактического поведения [9]. Авторы пришли к ряду весьма интересных выводов, подтверждающих основные концептуальные положения теории запланированного поведения. Прежде всего, вновь была отмечена более значимая роль воспринимаемого поведенческого контроля в формировании большинства компонентов профилактического поведения по сравнению с индивидуальными установками и давлением внешнего окружения. На практике это означает, что эффективной мерой может стать устранение барьеров, затрудняющих соблюдение рекомендаций или акцентирование внимания на более легких способах участия в том или ином профилактическом поведении. Повсеместное распространение санитайзеров с сенсорным дозированием, бесплатная раздача защитных масок – наиболее очевидные примеры подобной практики.
Одной из переменных, влияющих на приверженность профилактическому поведению, стал возраст. Ожидаемо, лица старших возрастных групп вели себя более ответственно по сравнению с молодежью по большинству из рекомендованных поведенческих моделей. Исследование, проведенное в США на национальной выборке взрослого населения в первом полугодии 2020 г., показало, что люди в возрасте 60 лет и старше достоверно чаще следуют базовым рекомендациям (носить маску, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию), чем представители более молодых возрастов [10]. Данные социологического опроса, проведенного весной 2020 г. в Германии, продемонстрировали увеличение с возрастом вероятности реализации респондентами ответственного медицинского поведения, но при этом снижение стремления соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены [11]. Исследование, проведенное в конце 2020 г. – начале 2021 г. в Греции, выявило, что представители более молодых возрастов (18–30 лет) чаще отрицают достоверность научных данных и сообщений в СМИ о COVID-19, что приводит к менее ответственному поведению [12].
Среди других социально-демографических факторов протективного поведения необходимо выделить гендерный: женщины и девочки традиционно демонстрируют более высокий уровень профилактического поведения во время пандемии [13]. По всей видимости, в отношении практики профилактики заражения существует устойчивый гендерный эффект во всех возрастах [14]. Одной из возможных интерпретаций может быть разница в личностных характеристиках, которая заключается в том, что женщины, как правило, обладают более высоким уровнем сознательности и социального конформизма [15]. Другим объяснением может быть разница в особенностях гендерного контракта и репертуаре социальных ролей мужчин и женщин. Например, женщины в целом более чистоплотны и аккуратны, они чаще выполняют функции по уходу за больными и поэтому более серьезно относятся к мерам предосторожности; женщины проводят больше времени дома и, следовательно, имеют меньше социальных контактов, легче переносят изоляцию и т.д. Это говорит о том, что, вероятно, необходима более целенаправленная информационная работа с мужчинами и мальчиками, традиционно склонными к рискованному поведению и недооценке опасностей.
Значимым фактором формирования протек-тивного поведения оказалось понимание индивидуальной уязвимости перед COVID-19. Исследование, проведенное в Германии в конце 2020 г., показало, что среди причин, обусловливающих повышенный риск, чаще всего назывался возраст старше 50 лет (33 %) и наличие основного заболевания (32 %). Высокий уровень соблюдения рекомендованных защитных мер был очевиден для всех участников. Особенно это касалось избегания прямых социальных контактов, отказ от вечеринок и путешествий, рукопожатий и соблюдения социальной дистанции и ношения защитной маски (показатель по каждой форме поведения превысил 88 %) [16]. В целом высокий уровень соблюдения мер инфекционного контроля был выявлен и в других немецких исследованиях [17].
Выбор стратегии поведения в ходе пандемии определялся также страхом перед заболеванием и уровнем доверия источникам информации [18]. Международное исследование, проведенное в странах Западной Европы и США в ходе первой волны пандемии, показало, что обеспокоенность COVID-19 достоверно связана с выбором протективной стратегии поведения. При этом существенно больший эффект на индивидуальное поведение оказывала самоэффективность (self-efficacy), характеризовавшаяся через самооценку уровня компетентности и способности действовать [19]. В целом медицинская грамотность (информированность) расценивается как ключевая компетенция, выступающая необходимым условием для понимания и оценки информации и инструкций по COVID-19, получаемых от органов здравоохранения и медицинских работников, и способности перевести их в повседневное применение для контроля и профилактики инфекции, а также для укрепления собственного физического и психического здоровья и здоровья семьи и близких. Высокий уровень медицинской грамотности также являлся значимым фактором положительного влияния на вакцинацию [20].
В ряде зарубежных публикаций фигурирует информация о высоком уровне медицинской грамот- ности в области профилактики и лечения COVID-19 как населения в целом, так и представителей отдельных социально-профессиональных групп [21]. Результаты опроса жителей Германии, проведенного весной 2020 г., показали, что до 80 % респондентов считают себя хорошо или очень хорошо информированными о пандемии [22]. Для этих граждан, с их субъективной точки зрения, легко или очень легко вести себя так, чтобы не заразить других людей, понимать инструкции властей о мерах защиты от коронавируса, оценивать меры защиты от заражения инфекцией и модели поведения, подвергающие их особенно высокому риску, решать, основываясь на информации из СМИ, как защитить себя от коронавирусной инфекции [23]. С одной стороны, данные результаты вполне ожидаемы, учитывая повсеместное распространение информации о здоровье в СМИ, научных публикациях и повседневном дискурсе. С другой стороны, оптимизм полученных результатов слегка гасится двумя обстоятельствами, характерными для всех исследований подобного рода. Во-первых, пандемия как никакое другое событие способствовала популяризации онлайн-опросов, ставших основным способом сбора эмпирических данных. Следовательно, в выборку не попали лица, не имеющие доступа к интернету. Учитывая очевидное преобладание среди них лиц старших возрастных групп, необходимо признать выпадение из анализа важного блока информации, касающейся наиболее уязвимой социально-демографической группы. Во-вторых, представленные данные носят характер самооценки и не показывают переход знаний в повседневные поведенческие практики.
Обратной стороной сверхпредставленности темы пандемии и здоровьсберегающего поведения в медиапространстве (в том числе в социальных медиа), помимо информационной перегрузки аудитории [24], стало растущее чувство неуверенности среди лиц, обладающих лишь минимальным количеством медицинских знаний. Их недостаток препятствовал адекватному или критическому восприятию информации, формировал противоречивые стратегии протективного поведения. Так, опрос жителей Германии показал, что среди респондентов, называющих себя хорошо информированными в вопросах COVID-19, большинство почти или совсем не испытывали тревоги, связанной с рисками заболевания, тогда как среди слабо информированных низкий уровень тревожности был характерен лишь для 19 % [23]. Данная закономерность представляется универсальной и не зависит ни от гендерного, ни от возрастного аспекта. Медицинская грамотность, которая позволяет оценить и применить информацию, может быть использована для устранения этого расхождения. Следует отметить, что различные источники информации могут по-разному влиять на их соблюдение, и диагностика эффективности каналов коммуникации становится отдельной важной задачей.
Индивидуально-личностные факторы про-тективного поведения. Люди различаются по уровню обеспокоенности, готовности и ожиданиям в отношении чрезвычайных ситуаций, проявляют различный уровень сознательности и ответственности. Знание того, как личность проявляется во время сложной эпидемической ситуации, может помочь предсказать поведение во время будущих вспышек инфекционных заболеваний и дать рекомендации соответствующим органам исполнительной власти по разработке советов с учетом индивидуальных особенностей.
Наиболее популярной (главным образом, из-за своей относительной простоты) теоретической рамкой для факторизации всего многообразия личностных черт является пятифакторная модель личности (FFM), возникшая в результате серии исследований еще в 60-е гг. ХХ в. [25]. Она вписывает личность в систему пяти основных координат, две из которых представляют для нашей темы непосредственный интерес: «Самоконтроль – Импульсивность» и «Эмоциональность – Спокойствие». Одной из черт первой оси является сознательность, а второй – ней-ротизм: именно они рассматриваются как основные личностные детерминанты формирования отношения к болезни и протективного поведения [26].
Логично предположить, что люди с высоким уровнем сознательности принимают больше мер предосторожности, чтобы избежать заражения коронавирусом. Этот вывод согласуется с данными целого ряда исследований поведения в отношении здоровья [27], в том числе касающихся профилактики COVID-19. Поскольку организованность, обязательность и ответственность являются ключевыми характеристиками добросовестности, люди с высокими показателями данного признака могут с большей вероятностью следовать рекомендациям по соблюдению мер предосторожности. Люди, обладающие более высоким уровнем экстраверсии, не склонны к пессимистическим оценкам продолжительности пандемии, обладают достаточным запасом внутренней энергии, более позитивно оценивают свою жизнь и здоровье. Следует отметить, что более высокая экстраверсия также была связана и с большей озабоченностью, что, на первый взгляд, противоречит вышеприведенным фактам. Однако опасения по поводу пандемии не следует отождествлять с пессимизмом; в какой-то степени они могут быть оправданной рациональной реакцией на объективно существующую опасность. Последнее обстоятельство также может быть обусловлено высокой корреляцией сознательности и экстраверсии, выражающейся, среди прочего, в заботе о благополучии социального окружения.
Нейротизм отражает склонность испытывать раздражительность, гнев, печаль, тревогу, беспокойство и враждебность. Поэтому неудивительно, что люди с высоким уровнем этой черты сообщали о выраженном беспокойстве и пессимистично оцени- вали продолжительность пандемии COVID-19 [28]. Люди с высоким уровнем нейротизма испытывают больше хронических негативных эмоций, особенно остро реагируют на психотравмирующие события и в большей степени полагаются на эмоциональные стратегии преодоления трудностей [29]. Несмотря на общую ипохондрическую ориентацию, лица с более высокими показателями нейротизма практикуют меньшее количество мер предосторожности. Это, однако, связано с присущей им повышенной депрессивностью, поскольку в других исследованиях COVID-19 более высокий нейротизм был связан со стремлением соблюдать социальную дистанцию и гигиеническим поведением, например, с мытьем рук или избеганием прикосновений к лицу.
Важным обстоятельством, характерным для американской научной традиции, стал вывод о роли этнического фактора в формировании поведенческих стратегий в условиях пандемии. Лица афроамериканского и испанского происхождения продемонстрировали большую озабоченность ситуацией и соответствующую готовность к принятию защитных мер [30]. Белое население, напротив, показало себя более беспечным по всем четырем аспектам пандемии: по уровню озабоченности, соблюдению мер предосторожности, оценке продолжительности эпидемии и подготовительному поведению, заключающемуся в создании запасов продуктов или лекарств для снижения потребности покидать свои дома в период изоляции. Это увязывается с меньшим уровнем социально-экономической адаптации и благополучия представителей данных этнических групп, заставляющим их занимать более ответственную позицию в условиях глобального кризиса [31].
Социологический подход побуждает авторов искать закономерности влияния индивидуальнопсихологических черт на поведенческие паттерны в любых других угрожающих ситуациях. Контрпродуктивный характер невротических реакций, польза сознательности, добросовестности и оптимизма очевидны и универсальны в любых критических ситуациях. Однако в схожих исследованиях факторов формирования протективных поведенческих паттернов в условиях пандемии (да и любого другого глобального кризиса) обращает на себя внимание идея о неизбежном в будущем снижении роли индивидуально-психологических особенностей в распределении данных. Другими словами, перед лицом серьезных опасностей, угрожающих популяции в целом, личностные характеристики перестают быть переменными, определяющими поведенческие особенности отдельных социальных и иных групп.
Роль семьи в выборе стратегии снижения рисков. Принципиальную роль в выборе индивидом самосохранительной стратегии в период пандемии COVID-19 играла семейная поддержка. Исследования, проведенные в различные периоды пандемии в странах Северной Америки, Западной Европы и Азии, показали, что наличие поддержки со стороны семьи, родственников и друзей достоверно повышает вероятность реализации индивидом протективно-го поведения [32–34]. Межстрановое исследование, проведенное летом 2020 г. на репрезентативной выборке в 6990 человек, показало, что поддержка со стороны «значимых других» выступала более существенным детерминантом выбора протективного поведения, чем пол, социально-экономическое положение, статус здоровья и уровень обеспокоенности в связи с пандемией [35]. Опрос израильских подростков, проведенный в первый (апрель 2020 г.) и второй (сентябрь 2020 г.) локдауны, показал, что рискогенное поведение (употребление алкоголя и курение, в том числе марихуаны) более характерно для детей из семей с низким уровнем семейной поддержки [36].
Эффективная реализация семьей функции социальной поддержки затруднялась неизбежными внутрисемейными трансформациями, связанными с пандемией. В результате противоэпидемических мер, прежде всего самоизоляции и карантина, семьи были вынуждены пересмотреть привычные картины собственного быта, распределение ролей, взаимодействие внутри системы и контакты с внешним миром. Факт, что все семьи так или иначе были затронуты пандемией, очевиден хотя бы в силу комплексного характера семейных систем, многообразия семейных субинститутов, внутрисемейных ролей и взаимодействий и уникальности каждой семьи как малой группы. Основные вопросы заключаются в том, как именно они были затронуты, какие субинституты и подсистемы подверглись наибольшим и наименьшим изменениям, и какие факторы обусловили наблюдаемые эффекты.
Главным фактором, определяющим позитивную адаптацию семьи к COVID-19, являлся положительный опыт внутрисемейного функционирования до пандемии. Такие семьи отличают высокие показатели психического здоровья и внутренней интеграции, что обеспечивает адекватную адаптивность в условиях неопределенности и хаоса. Именно такими понятиями, взятыми из теории семейного стресса, оперируют зарубежные исследовали, характеризуя реакцию семейных систем на изоляцию и эмоциональное состояние их членов [37]. Вынужденное пребывание в закрытом пространстве, нарушение связей с внешним миром, безработица, падение уровня жизни не могли не привести к изменению баланса властных отношений, статусов и ролей, процессов воспитания, качества отношений между родителями и детьми и между братьями и сестрами. Это требовало переналадки всех компонентов семейных систем, что, в свою очередь, вызывало ответные реакции на уровне подсистем и отдельных индивидов от сдержанного принятия до откровенного протеста [38, 39].
В контексте проблематики здоровьесбереже-ния нужно отметить, что эти обстоятельства обусловливают повышение родительского стресса, де- прессии и тревоги, что чревато риском развития расстройств психического здоровья и употребления психоактивных веществ не только у взрослых, но и среди подростков и учащейся молодежи. Подростки также подвергались риску возникновения проблем с психическим здоровьем из-за уменьшения поддержки со стороны сверстников и чувства одиночества во время пандемии [40]. При этом перспективы использования телемедицины и других форм дистанционного консультирования, на прогресс которых в новых условиях была сделана ставка, также оказались неоднозначными. В настоящее время появляются новые данные о том, что подобные вмешательства без прямого контакта с помощью технологий неэффективны при работе с социально неблагополучными группами населения. Таким образом, адаптация услуг телемедицины к семьям, находящимся в трудных жизненных ситуациях, включая решение вопросов доступа к технологиям, необходима для того, чтобы не усугубить существующее неравенство в доступе к медицинской помощи и уходу.
Значимым показателем, относящимся к проблематике здоровья семьи в контексте пандемии, является динамика случаев домашнего насилия [41]. Оно может рассматриваться как деструктивная, но вполне ожидаемая реакция на семейную дезорганизацию, когда потенциал конвенциональных средств гармонизации отношений исчерпан, а проблема не решена. Универсальный характер семейного насилия, то есть отсутствие привязки к конкретным группам риска, представленность во всех социальных слоях делает его чувствительным индикатором уровня семейного стресса, а сравнительный анализ динамики его показателей в пандемийный и допан-демийный периоды позволит продемонстрировать влияние противоэпидемических мер на показатели семейного стресса [42].
Традиционный для западной научной традиции гендерный подход рассматривает в качестве жертв семейного насилия женщин и детей, поэтому другие члены семьи в данном контексте фигурируют достаточно редко. Анализ общей статистики обращений показывает, что в период карантина увеличилось количество обращений в связи со случаями супружеского насилия, но уменьшилось количество сообщений о жестоком обращении с детьми. Последнее обстоятельство, скорее всего, является результатом сокращения контактов между детьми и сотрудниками учреждений, фиксирующих нарушение прав и запускающих всевозможные социозащитные механизмы.
Наиболее распространенной рекомендацией в рассмотренных исследованиях была необходимость цифрового доступа к услугам и повышения квалификации специалистов в области образования или здра- воохранения по использованию онлайн-платформ для выявления признаков семейного насилия. Также рекомендовалось усилить обучение и финансирование работников психиатрических и социальных служб для профилактики и предотвращения семейного насилия, особенно в контексте пандемий. Укажем, однако, еще раз на необходимость дифференцированного подхода к использованию цифровых технологий и выравнивания возможностей доступа различных социальных групп к онлайн-сервисам.
Стратегии сохранения ментального здоровья. Необходимость смены привычного жизненного уклада, ломка традиционного формата работы или учебы, принудительная изоляция, нахождение в закрытом пространстве в окружении одних и тех же людей на протяжении нескольких недель или месяцев явилось тяжелым испытанием для человеческой психики, определив необходимость выбора эффективных стратегий сохранения ментального здоровья. Согласно данным ВОЗ, в первый год пандемии COVID-19 распространенность тревожных расстройств и депрессии выросла в мире на 25 %4.
Динамика пандемии может быть представлена сменой стадий: начало, кризис, локдаун, переориентация и новая реальность, каждой из которых присущи свои доминирующие психологические переживания. Так, по данным немецких ученых, наибольший уровень генерализованной тревоги был отмечен на стадии локдауна – о наличии данного симптома в тяжелой форме сообщили 10 % опрошенных, что на порядок превысило допандемийные значения. Депрессия же сопровождала все этапы пандемии вплоть до формирования новой реальности – ее показатели повысились с 5,6 до 22 % [43].
По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, по состоянию на июнь 2020 г. почти треть взрослого населения страны страдала от тревоги или депрессии [44]. Эти показатели почти в два раза выше среди старших юношей, то есть у тех, у кого в последнее десятилетие уже наблюдался значительный рост распространенности психических расстройств. Более 60 % лиц в возрасте от 18 до 24 лет подвержены риску депрессии или тревоги, а четверть из них сообщили о том, что в течение предыдущего месяца рассматривали возможность самоубийства. Эти оценки демонстрируют значительный рост уровня депрессии по сравнению с примерно 11 % всех взрослых в 2019 г. и примерно 25 % студентов американских колледжей до пандемии.
Скачок показателей депрессии произошел сразу же после принятия мер по соблюдению социальной дистанции и изоляции. Это выразилось в резкой смене режимов физической активности, сна и проведения свободного времени, особенно в начале пандемии, в марте и апреле 2020 г. на фоне неопределенности перспектив распространения заболевания и сроков вынужденной самоизоляции. Было отмечено, что значения факторов риска депрессии у студентов, время обучения которых пришлось на пандемию и противоэпидемические мероприятия, оказались намного выше по сравнению с показателями у представителей предыдущих когорт [45]. Это доказывает, что пандемия обострила взаимосвязь между поддержанием привычного образа жизни и психическим здоровьем. Важно отметить, что по результатам эксперимента, в ходе которого группе студентов на полтора месяца вернули прежний режим физической активности, показатели психического здоровья лучше не стали [46]. Это может говорить о том, что данный вид деятельности ценен не сам по себе, а является лишь одной из форм социального взаимодействия, сведенного фактически к нулю противоэпидемическими ограничениями. Свой вклад в формирование риска для физического и психического здоровья внес и переход на дистанционное обучение, усугубивший падение физической активности и способствующий углублению коммуникативной депривации даже на фоне сближения виртуальной и настоящей реальности. В качестве положительного итога следует отметить, что эти данные показывают перспективные направления работ по восстановлению психического здоровья.
Еще одно очевидное предположение заключается в том, что связь физической активности с субъективным благополучием определяется в первую очередь изначальным уровнем психического здоровья, а не образом жизни. То есть изменения характера физической активности, продолжительности сна или моделей проведения свободного времени сами по себе являются ранними симптомами депрессии. Кроме того, и физическая активность, и нарушения психического здоровья могут быть обусловлены базовой реакцией участников на пандемию. Другими словами, люди, способные поддерживать свой образ жизни во время пандемии, и ранее были более устойчивыми к стрессу и наименее подверженными тревоге.
Международные организации сформулировали рекомендации по заботе о ментальном здоровье для отдельных социальных групп: Управление ООН по координации гуманитарных вопросов разработало руководство по психологической поддержке пожилых людей в панедмию5, ЮНИСЕФ – советы подросткам по заботе о ментальном здоровье в условиях новой реальности6. Рекомендации включали, на- пример, соблюдение режима сна и бодрствования, релаксацию, медитацию, следование принципам информационной гигиены, общение с близкими и друзьями. Исследование, проведенное в мае 2020 г. в США, показало, что среди населения распространены три основные стратегии поведения в отношении ментального здоровья в ходе пандемии – принятие, самоотвлечение и использование эмоциональной поддержки [47]. Менее популярными были стратегии поведенческой отстраненности, употребления психоактивных веществ и отрицания. Опрос жителей Австрии выявил значимость позитивного мышления, социальной поддержки и активных действий по противодействию стрессу для сохранения ментального здоровья [48]. Исследование, реализованное с марта по август 2020 г. в Великобритании, установило, что среди четырех базовых копинг-стратегий (проблемно-фокусированная, эмоциональ-но-фокусированная, избегающая и стратегия социальной поддержки), реализовавшихся респондентами, к наиболее интенсивному снижению тревожности и симптомов депрессии приводила стратегия социальной поддержки [49].
Обобщая различные поведенческие паттерны, характерные для населения в период пандемии COVID-19, можно выделить несколько стратегий снижения рисков для здоровья. Во-первых, стратегия максимальной протекции, характеризующаяся соблюдением большинства медицинских рекомендаций по профилактике заражения коронавирусной инфекцией (ношение маски и перчаток, соблюдение социальной дистанции, строгая самоизоляция в условиях локдауна, вакцинация и пр.). В рамках данной стратегии можно выделить различные вариации, во многом имеющие культурную детерминацию. Например, сравнительное исследование поведения населения Германии и Японии в первый год пандемии показало высокий уровень приверженности жителей обеих стран протективным практикам. При этом в Германии люди чаще мыли руки, старались избегать людных мест и контактов с пожилыми людьми, тогда как среди японцев было больше желающих вакцинироваться [50]. Во-вторых, стратегия доминирующей протекции, отличающаяся соблюдением базовых рекомендаций (ношение маски, частое мытье рук, самоизоляция): опрос, проведенный в Китае в начале 2020 г., показал, что в первой фазе пандемии именно данной стратегии придерживалось большинство населения [51]. Кросс-национальное исследование в странах Западной и Южной Европы показало, что частое мытье рук и ношение маски быстрее всего интегрировались в повседневные поведенческие практики населения [52]. Одной из вариаций стратегии доминирующей протекции являлось соблюдение базовых профилактических рекомендаций при отказе от вакцинации. В то же время факт вакцинации от коронавирусной инфекции снижал в дальнейшем степень приверженности индивида протективным практикам [53]. В-третьих, смешанная стратегия, предполагающая, с одной стороны, периодическое следование некоторым рекомендациям по профилактике заражения, а с другой – реализацию рискогенного поведения. Так, опрос, проведенный в августе – октябре 2020 г. в США, показал, что 12 % респондентов «всегда» или «часто» дезинфицировали руки и носили маски, но при этом также «всегда» или «часто» не соблюдали режим самоизоляции, ходили в магазин и гости [54]. Наконец, отдельной стратегией поведения в отношении рисков, связанных с COVID-19, является «ковид-диссидентство» (COVID-19 denialism), базирующееся на отрицании существования коронавирусной инфекции и / или масштабов ее опасности и распространения [55]. Выбор данной стратегии связан с уровнем медицинской грамотности (информированности) индивида и доверием различным источникам информации.
Выводы. Анализ исследований, проведенных в период пандемии COVID-19 в различных странах мира, позволил выявить вариативность индивидуальных стратегий снижения рисков для здоровья – от ответственного самосохранительного поведения до рискогенного, связанного с отрицанием коронавирусной инфекции и низким уровнем доверия информации о требуемых мерах профилактики. Факторы выбора индивидуальной стратегии поведения можно разделить на: а) социально-демографические (пол, возраст, этническая и территориальная принадлежность, самооценка риска инфицирования, статус здоровья); б) социально-психологические (уровень тревожности, нейротизма и сознательности); в) микросоциальные (степень поддержки со стороны социального окружения, информационная вовлеченность). Значимую роль в детерминации стратегического выбора в сфере здоровья играет семья и успешность ее адаптации к новым условиям функционирования.
Ситуация высокой эпидемиологической опасности сопряжена, с одной стороны, с рисками инфекционного заболевания, с другой – формирует у населения повышенный уровень тревожности, так как является фактором неопределенности, Предпринимаемые противоэпидемические мероприятия могут выступать дополнительным источником стресса в связи с изменением привычной повседневной жизни. Наиболее эффективной стратегией снижения рисков для ментального здоровья в подобных ситуациях оказывается ориентация на социальную поддержку, эмоциональную помощь значимых других, в первую очередь – членов семьи.
Многочисленные исследования особенностей поведения различных социальных групп в пандемию COVID-19 дают возможности для снижения рисков распространения инфекционных заболеваний в будущем. Целесообразным представляется: а) ориентация на целостную систему санитарного просвещения населения, повышение медицинской грамотности, оперативное информирование о рисках для здоровья; б) адресная работа по формированию приверженности самосохранительному поведению представителей групп риска, не обладающих достаточными ресурсами по противодействию заболеванию; в) разработка механизмов укрепления семейных связей, профилактика семейного неблагополучия как дополнительного фактора риска для здоровья в условиях напряженной эпидемиологической обстановки.
Ограничения исследования. В обзор были включены только полнотекстовые публикации на английском и немецком языках, содержащие результаты эмпирических исследований.
Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00480 «Са-мосохранительные стратегии россиян в условиях новой нормальности».
Список литературы Индивидуальные стратегии снижения рисков для здоровья в условиях высокой эпидемиологической опасности (обзор зарубежных исследований)
- Feehan J., Apostolopoulos V. Is COVID-19 the worst pandemic? // Maturitas. - 2021. - Vol. 149. - P. 56-58. DOI: 10.1016/j.maturitas.2021.02.001
- How does globalization affect COVID-19 responses? / S.J. Bickley, H.F. Chan, A. Skali, D. Stadelmann, B. Torgler // Global. Health. - 2021. - Vol. 17, № 1. - P. 57. DOI: 10.1186/s12992-021-00677-5
- Karlinsky A., Kobak D. Tracking excess mortality across countries during the COVID-19 pandemic with the World Mortality Dataset // eLife. - 2021. - Vol. 10. - P. e69336. DOI: 10.7554/eLife.69336
- Bottan N., Hoffmann B., Vera-Cossio D. The unequal impact of the coronavirus pandemic: Evidence from seventeen developing countries // PLoS One. - 2020. - Vol. 15, № 10. - P. e0239797. DOI: 10.1371/journal.pone.0239797
- Increased risk of COVID-19 in patients with diabetes mellitus-current challenges in pathophysiology, treatment and prevention / T. G?ca, K. Wojtowicz, P. Guzik, T. Gora // Int. J. Environ. Res. Public Health. - 2022. - Vol. 19, № 11. - P. 6555. DOI: 10.3390/ijerph19116555
- Drucker D.J. Diabetes, obesity, metabolism, and SARS-CoV-2 infection: the end of the beginning // Cell Metab. -2021. - Vol. 33, № 3. - P. 479-498. DOI: 10.1016/j.cmet.2021.01.016
- Ajzen I. The theory of planned behavior // Organizational Behavior and Human Decision Processes. - 1991. -Vol. 50. - P. 179-211.
- Impact of the COVID-19 pandemic on loneliness and social isolation: a multi-country study / R. O'Sullivan, A. Burns, G. Leavey, I. Leroi, V. Burholt, J. Lubben, J. Holt-Lunstad, C. Victor [et al.] // Int. J. Environ. Res. Public Health. - 2021. -Vol. 18, № 19. - P. 9982. DOI: 10.3390/ijerph18199982
- Preventive behaviors during the COVID-19 pandemic: associations with perceived behavioral control, attitudes, and subjective norm / D. Aschwanden, J.E. Strickhouser, A.A. Sesker, J.H. Lee, M. Luchetti, A. Terracciano, A.R. Sutin // Front. Public Health. - 2021. - Vol. 9. - P. 662835. DOI: 10.3389/fpubh.2021.662835
- Factors influencing COVID-19 prevention behaviors / E. Wachira, K. Laki, B. Chavan, G. Aidoo-Frimpong, C. Kin-gori // J. Prev. - 2023. - Vol. 44, № 1. - P. 35-52. DOI: 10.1007/s10935-022-00719-7
- The relation of threat level and age with protective behavior intentions during Covid-19 in Germany / N.C. Lages, K. Villinger, J.E. Koller, I. Brünecke, J.M. Debbeler, K.D. Engel, S. Grieble, P.C. Homann [et al.] // Health Educ. Behav. - 2021. - Vol. 48, № 2. - P. 118-122. DOI: 10.1177/1090198121989960
- Factors underlying denial of and disbelief in COVID-19 / A. Vasilopoulos, N.A. Pantelidaki, A. Tzoura, D. Papado-poulou, K. Stilliani, T. Paralikas, E. Kortianou, D. Mastrogiannis // J. Bras. Pneumol. - 2022. - Vol. 48, № 5. - P. e20220228. DOI: 10.36416/1806-3756/e20220228
- Impact of biological sex and gender-related factors on public engagement in protective health behaviours during the COVID-19 pandemic: cross-sectional analyses from a global survey / R. Dev, V. Raparelli, S.L. Bacon, K.L. Lavoie, L. Pilote, C.M. Norris, iCARE Study Team // BMJ Open. - 2022. - Vol. 12, № 6. - P. e059673. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-059673
- A systematic review and meta-analysis on the preventive behaviors in response to the COVID-19 pandemic among children and adolescents / F. Li, W. Liang, R.E. Rhodes, Y. Duan, X. Wang, B. Shang, Y. Yang, J. Jiao [et al.] // BMC Public Health. - 2022. - Vol. 22, № 1. - P. 1201. DOI: 10.1186/s12889-022-13585-z
- Otterbring T., Festila A. Pandemic prevention and personality psychology: Gender differences in preventive health behaviors during COVID-19 and the roles of agreeableness and conscientiousness // Journal of Safety Science and Resilience. - 2022. - Vol. 3, № 1. - P. 87-91. DOI: 10.1016/jjnlssr.2021.11.003
- Schaedel L., Dadaczynski K. Präventive Verhaltensweisen zum Schutz vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 bei Menschen mit gesundheitlicher Vulnerabilität [Preventive behaviors to protect against SARS-CoV-2 infection among people with health vulnerability] // Prävention und Gesundheitsförderung. - 2022. DOI: 10.1007/s11553-022-00989-3
- Germany COVID-19 snapshot monitoring (COSMO Germany): monitoring knowledge, risk perceptions, preventive behaviours and public trust in the current Coronavirus outbreak in Germany / C. Betsch, L. Wieler, M. Bosnjak, M. Ramharter, V. Stollorz, S. Omer, L. Korn, P. Sprengholz [et al.] // PsychArchives. - 2020. DOI: 10.23668/psycharchives.2776
- Factors Related to COVID-19 Preventive Behaviors: A Structural Equation Model / S. Surina, K. Martinsone, V. Perepjolkina, J. Kolesnikova, U. Vainik, A. Ruza, J. Vrublevska, D. Smirnova [et al.] // Front. Psychol. - 2021. - Vol. 12. -P. 676521. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.676521
- J0rgensen F., Bor A., Petersen M.B. Compliance without fear: Individual-level protective behaviour during the first wave of the COVID-19 pandemic // Br. J. Health Psychol. - 2021. - Vol. 26, № 2. - P. 679-696. DOI: 10.1111/bjhp.12519
- The impact of literacy on COVID-19 pandemic: an empirical analysis on India / S. Banerjee, S. Koner, D. Sharma, S. Gupta // J. Asian Afr. Stud. - 2023. - P. 1-10. DOI: 10.1177/00219096231171540
- Assessing COVID-19-related health literacy and associated factors among school teachers in Hong Kong, China / S.S.S. Lau, E.N.Y. Shum, J.O.T. Man, E.T.H. Cheung, P.A. Amoah, A.Y.M. Leung, K. Dadaczynski, O. Okan // Front. Public Health. - 2022. - Vol. 10. - P. 1057782. DOI: 10.3389/fpubh.2022.1057782
- Coronavirus-related health literacy: a cross-sectional study in adults during the COVID-19 infodemic in Germany / O. Okan, T.M. Bollweg, E.M. Berens, K. Hurrelmann, U. Bauer, D. Schaeffer // Int. J. Environ. Res. Public Health. - 2020. -Vol. 17, № 15. - P. 5503. DOI: 10.3390/ijerph1715550323. Gesundheitskompetenz der Bevölkerung im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie / O. Okan, S. de Sombre, K. Hurrelmann, E.-M. Berens, U. Bauer, D. Schaeffer // Monitor Versorgungsforschung. - 2020. - Vol. 3. - P. 38-44. DOI: 10.24945/MVF.03.20.1866-0533.2222
- COVID-19 information overload and generation Z's social media discontinuance intention during the pandemic lock-down / H. Liu, W. Liu, V. Yoganathan, V.-S. Osburg // Technol. Forecast. Soc. Change. - 2021. - Vol. 166. - P. 120600. DOI: 10.1016/j.techfore.2021.120600
- McCrae R.R., John O.P. An introduction to the five-factor model and its applications // J. Pers. - 1992. - Vol. 60, № 2. - P. 175-215. DOI: 10.1111/j.1467-6494.1992.tb00970.x
- John O.P., Naumann L.P., Soto C.J. Paradigm shift to the integrative Big-Five trait taxonomy: History, measurement, and conceptual issues // In book: Handbook of personality: Theory and research / ed. by O.P. John, R.W. Robins, L.A. Pervin. -3rd ed. - New York: Guilford Press, 2008. - P. 114-158.
- Hu Y., Lü W. Meaning in life and health behavior habits during the COVID-19 pandemic: Mediating role of health values and moderating role of conscientiousness // Curr. Psychol. - 2022. - P. 1-9. DOI: 10.1007/s12144-022-04020-y
- Well-being during the coronavirus pandemic: The effect of big five personality and COVID-19 beliefs and behaviors / S. Horwood, J. Anglim, H. Bereznicki, J.K. Wood // Social and Personality Psychology Compass. - 2023. - Vol. 17, № 7. -P. e12744. DOI: 10.1111/spc3.12744
- Big Five traits predict stress and loneliness during the COVID-19 pandemic: Evidence for the role of neuroticism / G. Ikizer, M. Kowal, I.D. Aldemir, A. Jeftic, A. Memisoglu-Sanli, A. Najmussaqib, D. Lacko, K. Eichel [et al.] // Pers. Individ. Dif. - 2022. - Vol. 190. - P. 111531. DOI: 10.1016/j.paid.2022.111531
- Psychological and Behavioural Responses to Coronavirus Disease 2019: The Role of Personality / D. Aschwanden, J.E. Strickhouser, A.A. Sesker, J.H. Lee, M. Luchetti, Y. Stephan, A.R. Sutin, A. Terracciano // Eur. J. Pers. - 2020. - Vol. 35, № 1. DOI: 10.1002/per.2281
- Stockman J.K., Wood B.A., Anderson K.M. Racial and Ethnic Differences in COVID-19 Outcomes, Stressors, Fear, and Prevention Behaviors Among US Women: Web-Based Cross-sectional Study // J. Med. Internet Res. - 2021. - Vol. 23. № 7. - P. e26296. DOI: 10.2196/26296
- Analyzing the role of family support, coping strategies and social support in improving the mental health of students: Evidence from post COVID-19 / C. Yang, H. Gao, Y. Li, E. Wang, N. Wang, Q. Wang // Front. Psychol. - 2022. - Vol. 13. -P. 1064898. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.1064898
- Association between family support and coping strategies of people with Covid-19: a cross-sectional study / A.M. Chilon-Huaman, A. Camposano-Ninahuanca, J.V. Chavez-Sosa, S. Huancahuire-Vega, W. De Borba // Psychol. Res. Be-hav. Manag. - 2023. - Vol. 16. - P. 2747-2754. DOI: 10.2147/PRBM.S410068
- Li S., Xu Q. Family support as a protective factor for attitudes toward social distancing and in preserving positive mental health during the COVID-19 pandemic // J. Health Psychol. - 2022. - Vol. 27, № 4. - P. 858-867. DOI: 10.1177/1359105320971697
- Perry C.J., Bekes V., Starrs C.J. A systematic survey of adults' health-protective behavior use during early COVID-19 pandemic in Canada, Germany, United Kingdom, and the United States, and vaccination hesitancy and status eight months later // Prev. Med. Rep. - 2022. - Vol. 30. - P. 102013. DOI: 10.1016/j.pmedr.2022.102013
- Risk behaviors, family support, and emotional health among adolescents during the COVID-19 pandemic in Israel / O. Shapiro, R.N. Gannot, G. Green, A. Zigdon, M. Zwilling, A. Giladi, L. Ben-Meir, M. Adilson [et al.] // Int. J. Environ. Res. Public Health. - 2022. - Vol. 19, № 7. - P. 3850. DOI: 10.3390/ijerph19073850
- Changes in family chaos and family relationships during the COVID-19 pandemic: Evidence from a longitudinal study / J.R. Cassinat, S.D. Whiteman, S. Serang, A.M. Dotterer, S.A. Mustillo, J.L. Maggs, B.C. Kelly // Dev. Psychol. -2021. - Vol. 57, № 10. - P. 1597-1610. DOI: 10.1037/dev0001217
- Hensley S., Harris, V.W. Impacts of the Coronavirus Pandemic on Families: A Family Systems Perspective // Advances in Social Sciences Research Journal. - 2022. - Vol. 9, № 7. - P. 230-238. DOI: 10.14738/assrj.97.12679
- Family stress during the COVID-19 pandemic: a qualitative analysis / M. Mathur, H. Robiolio, L. Ebert, B. Kerr // BMJ Open. - 2023. - Vol. 13, № 5. - P. e061396. DOI: 10.1136/ bmjopen-2022-061396
- Einflüsse der Coronapandemie auf gesundheitsbezogen Verhaltensweisen und Belastungen von Studierenden [Influences of the Corona pandemic on health-related behaviors and stresses of students. A survey at the Ostfalia University of Applied Sciences] / S. Ehrentreich, L. Metzner, S. Deraneck, Z. Blavutskaya, S. Tschupke, M. Hasseler // Prävention und Gesundheitsförderung. - 2022. - Vol. 17. - P. 364-369. DOI: 10.1007/s11553-021-00893-2
- COVID-19 and family violence: Is this a perfect storm? / K. Usher, C. Bradbury Jones, N. Bhullar, D.J. Durkin, N. Gyamfi, S.R. Fatema, D. Jackson // Int. J. Mental Health Nurs. - 2022. -Vol. 30, № 4. - P. 1022-1032. DOI: 10.1111/inm.12876
- COVID-19 disruption gets inside the family: A two-month multilevel study of family stress during the pandemic / D.T. Browne, M. Wade, S.S. May, J.M. Jenkins, H. Prime // Dev. Psychol. - 2021. - Vol. 57, № 10. - P. 1681-1692. DOI: 10.1037/dev0001237
- Veränderung der psychischen Belastung in der COVID-19-Pandemie in Deutschland: Ängste, individuelles Verhalten und die Relevanz von Information sowie Vertrauen in Behörden [Change in psychological burden during the COVID-19 pandemic in Germany: fears, individual behavior, and the relevance of information and trust in governmental institutions] / E.-M. Skoda, A. Spura, F. De Bock, A. Schweda, N. Dörrie, M. Fink, V. Musche, B. Weismüller [et al.] // Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. - 2021. - Vol. 64, № 3. - P. 322-333. DOI: 10.1007/s00103-021-03278-0
- Prevalence of depression symptoms in us adults before and during the COVID-19 pandemic / C.K. Ettman, S.M. Abdalla, G.H. Cohen, L. Sampson, P.M. Vivier, S. Galea // JAMA. - 2020. - Vol. 3, № 9. - P. e2019686. DOI: 10.1001/j amanetworkopen. 2020.19686
- Luo W., Zhong B.-L., Chiu H.F.-K. Prevalence of depressive symptoms among Chinese university students amid the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis // Epidemiol. Psychiatr. Sci. - 2021. - Vol. 30. - P. e31. DOI: 10.1017/S2045796021000202
- Lifestyle and mental health disruptions during COVID-19 / O. Giuntella, K. Hyde, S. Saccardo, S. Sadoff // Proc. Natl Acad. Sci. USA. - 2021. - Vol. 118, № 9. - P. e2016632118. DOI: 10.1073/pnas.2016632118
- Perceptions, coping strategies, and mental health of residents during COVID-19 / M.A. DeDonno, A.H. Ferris, A. Molnar, H.M. Haire, S.S. Sule, C.H. Hennekens, S.K. Wood // South Med. J. - 2022. - Vol. 115, № 9. - P. 717-721. DOI: 10.14423/SMJ.0000000000001439
- Budimir S., Probst T., Pieh C. Coping strategies and mental health during COVID-19 lockdown // J. Ment. Health. -2021. - Vol. 30, № 2. - P. 156-163. DOI: 10.1080/09638237.2021.1875412
- Coping strategies and mental health trajectories during the first 21 weeks of COVID-19 lockdown in the United Kingdom / M. Fluharty, F. Bu, A. Steptoe, D. Fancourt // Soc. Sci. Med. - 2021. - Vol. 279. - P. 113958. DOI: 10.1016/j.socscimed.2021.113958
- Social norms and preventive behaviors in Japan and Germany during the COVID-19 Pandemic / C. Schmidt-Petri, C. Schröder, T. Okubo, D. Graeber, T. Rieger // Front. Public Health. - 2022. - Vol. 10. - P. 842177. DOI: 10.3389/fpubh.2022.842177
- Chinese public's engagement in preventive and intervening health behaviors during the early breakout of COVID-19: cross-sectional study / Z. Niu, T. Wang, P. Hu, J. Mei, Z. Tang // J. Med. Internet Res. - 2020. - Vol. 22, № 8. - P. e19995. DOI: 10.2196/19995
- Behaviours and attitudes in response to the COVID-19 pandemic: insights from a cross-national Facebook survey / D. Perrotta, A. Grow, F. Rampazzo, J. Cimentada, E. Del Fava, S. Gil-Clavel, E. Zagheni // EPJ Data Sci. - 2021. - Vol. 10, № 1. - P. 17. DOI: 10.1140/epjds/s13688-021-00270-1
- Effect of the COVID-19 vaccine on preventive behaviors: Panel data analysis from Japan / E. Yamamura, Y. Kosaka, Y. Tsutsui, F. Ohtake // Vaccines. - 2023. - Vol. 11. - P. 810. DOI: 10.21203/rs.3.rs-1625548/v1
- Clusters of COVID-19 protective and risky behaviors and their associations with pandemic, socio-demographic, and mental health factors in the United States / K. Nishimi, B. Borsari, B.P. Marx, R.C. Rosen, B.E. Cohen, E. Woodward, D. Maven, P. Tripp [et al.] // Prev. Med. Rep. - 2022. - Vol. 25. - P. 101671. DOI: 10.1016/j.pmedr.2021.101671
- Thagard P. The cognitive science of COVID-19: Acceptance, denial, and belief change // Methods. - 2021. -Vol. 195. - P. 92-102. DOI: 10.1016/j.ymeth.2021.03.009