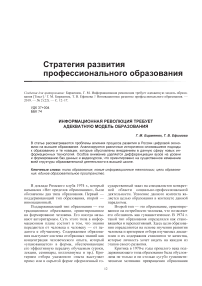Информационная революция требует адекватную модель образования
Автор: Бирженюк Григорий Михайлович, Ефимова Татьяна Викторовна
Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo
Рубрика: Стратегия развития профессионального образования
Статья в выпуске: 2 (22), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы влияния процесса развития в России цифровой экономики на высшее образование. Анализируются различные исторически сложившиеся подходы к образованию и те новации, которые обусловлены внедрением в данную сферу новых информационных технологий. Особое внимание уделяется дифференциации вузов на уровни и формированию баз данных и видеокурсов, что ориентировано на существенное изменение всей структуры образовательной деятельности в высшей школе
Типы образования, новые информационные технологии, цели образования, единое образовательное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/142228167
IDR: 142228167 | УДК: 37+004
Текст научной статьи Информационная революция требует адекватную модель образования
В докладе Римского клуба 1974 г., который назывался «Нет пределов образованию», были обозначены два типа образования. Первый — поддерживающий тип образования, второй — инновационный.
Поддерживающий тип образования — это традиционное образование, ориентированное на формирование человека. Его иногда называют авторитарным. Суть этого типа в информационном плане состоит в том, что знания передаются от человека к человеку — от педагога к обучаемому. Содержанием образования выступает система отобранных знаний как концентрация человеческого опыта, который «упаковывается» в формы, обеспечивающие его эффективную передачу обучаемым (уроки, лекции, семинары, коллоквиумы и пр.). Критерием отбора указанного опыта выступает прямо или в скрытой форме оформленный го- сударственный заказ на специалистов конкретной области социально-профессиональной деятельности. Усвоение данного контента является целью образования в контексте данной парадигмы.
Второй тип — это образование, ориентированное на потребности человека, что позволяет его обозначить как гуманистическое. В 1974 г. такой тип образования определялся как становящийся и перспективный. Здесь цели образования определяются на основе изучения развития человека и критерием отбора изучаемых дисциплин и их содержания становятся те качества, которые личность хочет видеть на каждом из этапов своего развития.
Критика в 1970-е годы прошлого века поддерживающего типа образования была обусловлена не только и не столько сугубо гуманистическими мотивами превращения образования в фактор развития личности обучаемого. Критикуемая в материалах Римского клуба передача знаний от педагога к обучаемому берет свое начало в XII–XIII веках, когда возникли первые университеты (Болонский, Парижский, Оксфорд, Гарвард), где профессора излагали в форме лекций знания, добытые, условно говоря, «вчера» или в лучшем случае «сегодня», для того чтобы обучаемые их использовали «завтра», т. е. в своей дальнейшей практической деятельности и в течение всей трудовой жизни. В тот период истории знания обновлялись примерно раз в сто лет и значительный временной лаг между их появлением, использованием в обучении и применением был малозаметен и в целом приемлем.
Ситуация начала резко меняться в XVIII– XIX веках, когда произошла научно-техническая революция и скорость устаревания и смены знаний возросла в разы. Далее, в конце XX — начале XXI века по ряду областей науки и практики знания начали сменяться чуть ли не ежегодно. Однако в своих основных чертах образовательный процесс сохранял и сохраняет сходство с первыми университетами Европы: доминирует педагог, идут лекции, за ними семинары или практические занятия и т. д. Передаваемые знания по-прежнему черпаются из прошлого, а применять их планируется в будущем…
Были различные попытки отреагировать на данный вызов. Они отразились в ряде подходов. Один из них получил условное название «опережающее обучение». Как явствует из названия, цель состояла в том, чтобы готовить специалистов для того, чтобы они, фигурально выражаясь, «бежали впереди прогресса» и были готовы решать задачи, которые возникнут в возможном будущем. Эта модель-подход довольно быстро потерпела крах, поскольку предсказать направления развития конкретных областей профессиональной деятельности оказалось сложно и человек, который бежал впереди прогресса, часто, обернувшись, этот прогресс уже не обнаруживал, так как тот свернул в сторону.
Другой подход именуется «обучение на протяжении всей жизни» (life-long learning). Здесь также название говорит о его сути — специалист должен учиться, доучиваться и переучиваться всю свою трудовую жизнь. Подход этот реализуется и сегодня, но эффективность его не столь велика, чтобы принять его за основу будущих образовательно-профессиональных стратегий. Во-первых, он весьма затратен, во-вторых, он опирается в основном на негативную мотивацию обучаемых (боязнь потерять работу), наконец, в-третьих, обучаемый в 18–20 лет усваивает информацию в одних объемах, а в 25–30 или 45–50 лет уже в гораздо меньших объемах и с иной скоростью, и это лишает данный подход изрядной доли его привлекательности.
Кроме того, ХХ и ХХI века показали миру ряд примеров, когда люди, которые учиться в институциализированных формах не хотели, достигли значительных успехов именно в то время, когда их сверстники усердно посещали учебные заведения. Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг, Майкл Делл — все они не имеют университетских дипломов и при этом стали миллиардерами именно за счет эффективной деятельности в высокотехнологичных отраслях экономики.
Эти примеры говорят не столько в пользу тезиса, что образование не приносит успехов, сколько о том, что оно должно стать более рациональным и освободиться от ряда дисциплин, представляющих некую сумму знаний, которые сначала сложно усвоить, а далее оказывается, что использовать их в профессиональной сфере невозможно, так как они устарели.
Сегодня мы являемся свидетелями и участниками бурного развития информационных технологий. Эти технологии, с одной стороны, вызвали повышение объема циркулирующих во всех сферах социальной практики информационных потоков, с другой — позволили включиться в них миллионам людей и удовлетворить на новом уровне свои информационные потребности (от кулинарных и новостных до научных). Существует множество работ философов, социологов, экономистов, где всесторонне анализируется принципиально новый тип общества. Такое общество именуется по-разному — постиндустриальное, информационное, «общество знания» и др. Главной его характеристикой является информационная революция, которая коренным образом меняет все сферы жизнедеятельности — профессионально-трудовую, технологическую, социальную, культурную, досуговую и т. д.
Образование оказалось едва ли не в эпицентре этой революции. Оно, отвечая на вызовы времени и запросы общества, должно готовить кадры для новых отраслей производства и науки, и оно же должно было интенсифицировать эти процессы на основе применения информационных технологий.
За рубежом информационная революция породила множество направлений модернизации образования на основе формирования открытых ресурсов по профессиональному и школьному образованию, проектируются мобильные приложения к этим ресурсам, облегчающим доступ к их содержанию. Принимаются национальные стандарты информационных образовательных технологий (США, Китай, Австралия, Великобритания, Ирландия и др.), которые обеспечивают согласование различных образовательных ресурсов. Университеты интегрируются в международный образовательный процесс, причем это происходит на основе открытия своих данных и интеграции их с данными других вузов (европейский проект Linked Universities). Происходит это в рамках сложившихся образовательных систем и с учетом реальных потребностей тех или иных сегментов рынка труда.
В России идут сходные процессы и есть попытки реализовать близкие по формам к зарубежному опыту проекты. Создается единая информационно-образовательная среда вуза (школы), куда входят электронные библиотеки, базы данных, электронные учебно-методические комплексы, справочные материалы, система поддержки самостоятельной работы студентов, видеокурсы по различным дисциплинам и т. д. Все они должны быть интегрированы в единое информационно-образовательное пространство России.
Пока в качестве системообразующих элементов этого пространства выступают базы данных и видеокурсы, позволяющие практически каждому прослушать лекции ведущих педагогов по различным дисциплинам. Таких курсов уже предлагается достаточно много. В частности, в рамках проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» к 2020 году будет разработано 3,5 тысячи онлайн-курсов, по которым обучатся около шести миллионов человек. На платформе «Открытое образование» доступно более 200 онлайн-курсов от 300 российских вузов [1]. «Открытый университет» реализует новый тип свободного онлайн-образования (более 14 тысяч подписчиков) и предлагает более 600 видеолекций.
Понятно, что единое информационнообразовательное пространство этим не исчерпывается, но видеокурсы репрезентируют ряд проблем, которые могут в дальнейшем стать тормозом развития системы образования. Речь идет о том, что образовательный процесс — это по определению целостное явление, интегрирующее воспитание и обучение, ориентированные на общую цель образования. Маловероятно, что лекторы, читавшие лекции в разных местах, в разное время, по единым, но все равно лично проинтерпретированным программам, могут решить эту задачу.
Ядром педагогического процесса на протяжении всей истории существования образования выступает педагогическое взаимодействие — согласованная деятельность педагогов и обучаемых, направленная на достижение общей цели. Маловероятно, что лекции с монитора компьютера обеспечат это качество образовательного процесса.
В свое время, когда появились слайд-про-екторы, а потом и видеопроекторы, педагогов в вузах начали оценивать по такому критерию, как «использование новых информационных технологий (НИТ)». После некоторого сопротивления (особенно со стороны педагогов старшей возрастной группы) в лекционных занятиях начали широко практиковать использование слайдов, презентаций, видеороликов, и тут обнаружились негативные моменты. В ряде случаев педагоги превратились в приложение к собственным презентациям, что не способствовало постоянной переработке содержания занятий, в других — студенты просто фиксировали презентации на мобильные телефоны и потом готовились к экзаменам по этим фотографиям.
Фактически был нарушен очень сложный психофизический процесс усвоения информации и превращения ее в знания. Студент, который слышит лектора, пропускает информацию через мозг, обобщает ее и фиксирует на бумаге собственной рукой, которая также играет роль в создании устойчивых представлений о тех или иных фактах. Новые технологии (которые уже и не новые) весь этот процесс упростили и «спрямили». Информация, минуя слуховые и зрительные рецепторы, сознание с его оценочной, фиксирующей и иными функциями, попадает в мобильный телефон и виде фотографии и далее возвращается к ее актору на экзамене, не оставляя заметных следов в сознании студента. Есть студенты, которые конспектируют и воспроизводят традиционную схему получения знаний, но значительная их часть (практически большинство) идут более простым, описанным выше путем.
Добавим к этому, что образовательный процесс направлен на согласование интересов личности, общества и государства, взаимопонимание и сотрудничество между членами общества, на развитие ценностного мира человека и т. д.
Все это может случиться в цифровом образовательном пространстве, но вероятность такого результата близка к нулевой.
Есть и еще один аспект данной темы. В большинстве работ по проблемам информационного общества понятия «информационная революция» и «знаниевая революция» не дифференцируются и часто используются как синонимы. Однако прогресс в способах и средствах хранения, поиска и передачи информации не гарантирует автоматической положительной динамики в способах, механизмах и объемах порождения нового знания.
Приходится констатировать, что информационная революция не привела к формированию нового общества знания. Скорее, наоборот — в информационном обществе объективно возникает переизбыток информации, которая характеризуется различным качеством, объективностью, полнотой, формами ее представления и другими компонентами, что ведет к появлению и постоянному усилению так называемого информационного шума. Человек, формируемый в этой информационной среде, складывает для себя весьма противоречивую, мозаичную картину мира, и здесь как раз возрастает роль педагога, который бы помог обучаемому сориентироваться в разнородных информационных потоках. Как представляется, информационная революция усилила и обогатила новыми гранями явления, которые зафиксировали в своих работах представители постмодернизма. Речь идет о том, что в условиях «пост…» происходит девальвация центрального компонента просвещенческой модели культуры — знания.
Пребывание человека в среде виртуальной реальности делает для него реальной знаковую реальность. Она отличается тем, что здесь правят бал симулякры, которые заменяют собой знание, смыслы и другие категории, репрезентированные в повседневном опыте личности, но вытесненные в мире виртуальном. По словам Ж. Бодрийяра, мы находимся «во вселенной, в которой становится все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла» [2, с. 10].
Информационная революция обостряет проблему доступа к подлинным знаниям. Она выступает в ряде случаев как фактор новой дифференциации общества, где формируется два новых класса: нетократы — элита, устанавливающая монополию на знание, с помощью которого формируется повестка дня, ценности, новости и т. д., и консьюмтариат — т. е. низ- ший класс, чья роль сводится к поглощению дозированной и структурированной особым образом информации.
По сути дела, информация представляет собой «лишь намек на представленное знание» [3, с. 365]. Знание же — это особый продукт — результат активности когнитивной, аффективной и конативной сфер человека. Это предполагает целеполагание, ценностный компонент, определяющий личностное отношение к информации, системность, апробированность практикой.
Цифровизация, как это уже заметно на примере развитых стран, объективно вытесняет людей из различных сфер социальной практики. Нынешний технологический уклад связан с заменой человека уже и в интеллектуальных операциях. Высшую школу это миновать не может, и об этом нужно размышлять, пока не поздно.
В печати и на различных конференциях и совещаниях активно обсуждается вопрос о совершенствовании системы аккредитации вузов, которая, по идее, должна создать предпосылки для дифференциации высших учебных заведений. В итоге все российские вузы могут быть (и, скорее всего, будут) разделены на три группы. «10–20 университетов получат право самостоятельного определения учебной и экзаменационной политики, 100–200 вузов второго эшелона получат от государства средства на подготовку бакалавров и магистров, а остальные — только на бакалавров» [4].
Но этим операция не ограничится. По мнению ректора Высшей школы экономики Я. Кузьминова, ведущий вуз должен все свои базовые курсы по профильному направлению и значительное число курсов по выбору реализовать в онлайн-форме и сделать доступными для широкой аудитории.
Продвинутые вузы должны обеспечить он-лайн-курсами базовый компонент. А для базовых вузов данная форма должна охватить значительную часть образовательных курсов, причем за их качество будут отвечать профессора ведущих университетов [5]. Иными словами, значительная (по сути, подавляющая) часть вузов получат помещения, мебель и средства для демонстрации обучаемым видеолекций профессоров нескольких ведущих вузов.
Тот же Я. Кузьминов говорит, что «…к 2018 году традиционные лекции превратились в “профанацию”: студенты на них не ходят, а у преподавателей не остается времени на исследовательскую работу» [6].
Возникает много вопросов. Например, не путает ли уважаемый ректор «Вышки» понятия «лекция» и «плохая лекция»? Почему есть основания думать, будто студенты, которые не ходят на «живые лекции», станут их слушать на компьютере или в мобильном телефоне? Вероятно, это удобно делать в метро, во время ожидания девушки, опаздывающей на свидание и т. п., но какова эффективность такой формы взаимодействия студента с профессором? Будет ли все это способствовать появлению ярких и самобытных лекторов-педагогов? Скорее всего, мы получим дальнейшую деградацию преподавательского корпуса за счет естественной убыли профессоров (по возрасту и выходу на пенсию, уходу из жизни и т. п.), а также оттока дееспособных педагогов, не желающих переходить на деятельность в онлайн-режи-ме. Вопрос о том, появятся ли яркие педагоги в вузах, превращенных в прокатные заведения, транслирующие записанные лекции столичных профессоров, можно и не задавать в силу очевидности ответа.
Как представляется, мы получили в свои руки мощный ресурс, но пока концептуально с ним не определились. Пока у одной части общества имеет место эйфория по поводу новых технологий и возможностей, которые они несут, в данном случае для образования, у других доминируют более инструментальные настроения. Например, у близких к власти вузов есть возможность решить ряд своих задач. Можно ранжировать университеты, и в результате этой операции в одних университетах будут вести занятия педагоги, в других студенты будут слушать их же видеокурсы. Финансирование будет осуществляться соответственно — вузы, которые продвигают эту «реформу» под видом развития цифровой экономики, получат максимальное финансирование, другим перепадут крохи. Мы прожили уже почти три десятилетия в постсоветской России и еще до введения любых масштабных экспериментов можем с почти полной вероятностью предсказать их результат. В данном случае ясно, что цифровизация образования — это большие деньги, которые всегда побуждают украсть их — целиком или частично. Такой опыт есть, и он весьма обширен, достаточно вспомнить скандалы с хищениями в Роскосмосе, в учреждениях, подведомственных Минкультуры, в Агролизинге и т. д. В России, как только из бюджета на что-то выделяют миллиарды, тут же появляются новые миллионеры. Деградация же образования пойдет своим путем.
Фактически сегодня в образовании сложилась ситуация, которая укладывается в грамматическую конструкцию, типичную для большинства задач из школьных учебников: дано… требуется доказать…
Даны новые информационные технологии, которые позволяют создавать гигантские базы данных, концентрирующих научную, учебную, методическую и иную информацию. Существуют структуры, которые эту информацию накапливают, упорядочивают, хранят, распределяют и т. д. Имеются средства, позволяющие любому числу пользователей получать доступ к этим базам и осуществлять коммуникацию как между собой, так и со структурами, управляющими этими информационными потоками. Требуется доказать, что это все порождает новое знание, способствует формированию личности, способной эффективно работать в условиях новых вызовов. Как представляется, это случится, только когда будет предложена модель образования, адекватная как тем изменениям, которые принесла с собой информационная революция, так и более широкому кругу экономических, политических, технологических, культурных и иных реалий нашей жизни.
Список литературы Информационная революция требует адекватную модель образования
- Людмила Огородова: Модернизация вузов влияет на успех социально-экономического развития страны [Электронный ресурс]. - URL: http://www.sib-science.info/ru/heis/znaniyadayut-energi-21092017 (дата обращения: 06.04.2019).
- Baudrillard, J. Simulacrts et simulations / J. Baudrillard. - P., 1981.
- Микешина, Л. А. Философия науки: Современная эпистемология: Научное знание в динамике культуры: Методология научного исследования [Текст]: учеб. пособие / Л. А. Микешина. - М.: Прогресс-Традиция; МПСИ; Флинта, 2005. - 464 с.
- Минобрнауки предлагает разделить российские вузы на три категории: Белые, серые, черные [Электронный ресурс]. - URL: https://iq.hse.ru/news/177715498.html (дата обращения: 06.04.2019).
- Селимов, М. Продвинутые, ведущие и прочие…: Вузы планируется разделить на категории [Электронный ресурс] / М. Селимов. - URL: https://riaderbent.ru/prodvinutye-vedushhie-iprochie-vuzy-planiruetsya-razdelit-na-kategorii.html (дата обращения: 06.04.2019)
- Черных, А. «Фактически будет ограничена свобода слова»: «Ъ» изучил, что преподаватели и студенты думают о перспективе отмены лекций [Электронный ресурс] / А. Черных. - URL: http://netreforme.org/news/fakticheski-budet-ogranichena-svoboda-slova-izuchil-chtoprepodavateli-i-studentyi-dumayut-o-perspektive-otmenyi-lektsiy/#more-23984 (дата обращения: 06.04.2019)