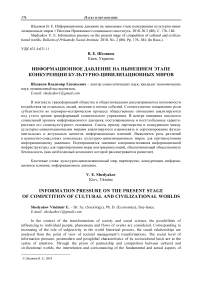Информационное давление на нынешнем этапе конкуренции культурно-цивилизационных миров
Автор: Шедяков В. Е.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Наука и образование
Статья в выпуске: 2 (80), 2018 года.
Бесплатный доступ
В контексте трансформаций общества и обществоведения рассматриваются возможности воздействия на отдельных людей, явления и потоки событий. Соответственно повышению роли субъектности во всемирно-историческом процессе общественные отношения анализируются под углом зрения трансформаций социетального управления. В центре внимания находится социальный уровень информационного давления, постсовременные и постглобальные характеристики его социокультурного основания. Сквозь призму партнерства и конкуренции между культурно-цивилизационными мирами анализируются взаимосвязь и сорезонирование фундаментальных и актуальных аспектов информационных влияний. Выявляется роль различий в ценностно-смысловых комплексах культурно-цивилизационных миров для противостояния информационному давлению. Подчеркивается значение совершенствования информационной инфраструктуры для гарантирования меры контрманипуляций, обеспечивающей общественную безопасность (как необходимый компонент которой рассматривается развитие).
Культурно-цивилизационный мир, партнерство, конкуренция, информационное влияние, информационное давление
Короткий адрес: https://sciup.org/14126875
IDR: 14126875 | УДК: 631.4:631.11
Текст научной статьи Информационное давление на нынешнем этапе конкуренции культурно-цивилизационных миров
V. E. Shedyakov
Kiev, Ukraine
INFORMATION PRESSURE ON THE PRESENT STAGEOF COMPETITION OF CULTURAL AND CIVILIZATIONAL WORLDS
Shedyakov Vladimir Е. – Dr. Sc. (Sociology), Ph. D. (Economics), free-lance.
Методология и инструментарий «кибернетики второго порядка» эффективны для изучения субъект-субъектных отношений и оптимизации воздействий на самоуправляемые явления и процессы, а также для интерпретации роли разнокачественных обратных связей, в том числе в сфере заинтересованности обществоведения. Активизация синтеза, пришедшая на смену доминанте анализа, потворствует мифологизации восприятия и использованию диапазона механизмов окна Овертона. Постглобальность и переход от состояния системы к несистемной целостности при ослаблении доминантности прогресса и определенности его направления в модели «ризома» существенно разнообразит точки уязвимости, трансформируя коридор свободы действий. Постнеклассика расширяет диапазон влияния на принятие решения и осуществление выбора. Межпарадигмальная переходность привносит дополнительные возможности, прежде всего в связи с противоборством на ее протяжении кардинально разных подходов и путей развития. Информационное половодье радикально расширяет потоки как индивидуального, так и социального информационного давления. Распространение демократических процедур, скрывающее различное содержание, повышает значение общественного мнения. Эффективность ресурсно-методологических баз контрманипулирования может значительно меняться в восприятии как массы представителей культурно-цивилизационных миров, так и отдельных личностей [2; 3; 6; 13].
Природа рефлексивного управления требует внимания и учета качеств не только объективной, но и субъективной составляющей исторического процесса, в частности, деятельных участников и колеблющихся, актива и пассива происходящего, союзников и противников, их структурных и функциональных характеристик. Тем самым оптимальное развитие социально-политических процессов предполагает вызревание самой общественной среды, а также кластеров будущего как звеньев цепи, потянув за которые можно изменить положение всей цепи общественного организма. Постсовременное взаимопересечение признаков постиндустриальности и постглобализма и восстанавливает уже во всемирном масштабе эффект агоры, и усиливает искус задействования манипуляций для получения результата и обеспечения трансформаций, расцениваемых как выгодные. Тем паче годы доминирования Запада после падения Организации Варшавского договора и СССР усилили привычку навязывания своего мировоззрения, оценок и интересов. Вместе с тем безопасность и развитие общества обеспечиваются функционированием контуров координации и самоуправления, качество которых предопределяет характер ответов социальной целостности на внутренние и внешние вызовы [1; 9; 16; 17; 19].
Качество стратегического социетального управления – важнейший фактор конкуренции не только микроэкономических субъектов хозяйствования, но и культурно-цивилизационных миров. Факты общественной жизни мерцают в субъективности их смысловой интерпретации. Сборка событий в тенденцию во многом характеризует ожидания аналитика / комментатора, осуществляясь под определяющим воздействием мировоззрения. Взаимодействие культурно-цивилизационных миров всегда включало элементы конкуренции и партнерства, соотношение которых позволяло констатировать большую / меньшую комплиментарность, притяжение / отталкивание. При этом переживают свои жизненные циклы культурно-цивилизационные миры отнюдь не синхронно. Разумеется, как условное преобладание какого-либо из них в определенный момент вовсе не означает его большей потенциальной ценности для развития всей ойкумены, так и проигравшие в исторической конкуренции зачастую таили спасительные для человечества возможности повышения качества жизни и создания условий для творческого раскрытия одаренности.
Для обеспечения устойчивости к информационному воздействию (прежде всего, методами «разноцветного бархата» и технологиями «мягкой власти») критически важно создать условия для точек развития, как способных запустить цепную реакцию благотворных для развития перемен, так и стимулирующих желательные трансформации общественной среды. Повышение значения демократических процедур влияет на динамику концептуальной власти в направлении социального уровня воздействия, а ризо-мический характер изменений требует укрепления социокультурного, в частности, ценностно-смыслового остова социума. Народ, осознавший свою самобытность и ее ценность, способен на историческое творчество как по существу, так и в присущих культурно-цивилизационному миру социально-политических формах [4; 5; 7; 10; 11; 14]. Соответственно, требуется активизация потенциала всего народа и характера бесструктурного управления.
Вместе с тем намеренное, целенаправленное искажение информационного поля путем распространения специально подготовленной информации может и кардинально изменить направление общественного развития, и сбить развитие общества с темпа, а также разрушить систему его безопасности. Соответственно, все сообщества пытаются как защититься от проникновения недобросовестной информации, так и нарастить свои системы контрпропаганды. Например, СССР имел достаточно совершенную систему контрпропаганды с защитой от иностранных информационных вирусов, активно распространявшихся пропагандистскими акцентами подачи «Голоса Америки», «Свободы», «Би-Би-Си», «Свободной Европы» и т. п. В этом контексте контрманипуляция – это использование набора средств, ресурсно-методологических баз для предотвращения, локализации или ликвидации нежелательных воздействий, прежде всего, попыток внесения негативных вирусов в общественное сознание (в частности, за счет разнообразного искажения информационного поля)1. Активизация жизненных сил народа сейчас требует акцентирования социального уровня и социокультурного содержания информационной среды, а следовательно, адекватного обновления информационной инфраструктуры. В свою очередь, тенденции к становлению в глобальном масштабе общества знаний усиливают значение интеллектуальной составляющей производительных сил, повышают востребованность творческой активности и информационной гибкости. Это создает предпосылки расширения диапазона воздействий в духе окна Овертона с обеспечением плавного сдвига восприятия вносимых подходов от неприемлемых к привлекательным, воспринимаемым как естественные, через стадии от возмущения к признанию и превращению в норму новых комплексов традиций, идеологий и мифов и сломом базовых ценностно-смысловых комплексов [8; 12; 15; 18; 20].
Культура же составляется из совокупности материальных и духовных ценностей, где мириады социокультурных стилистик сведены в культурно-цивилизационные миры на основе своих базовых ценностно-смысловых комплексов, отходящих от состояния систем к бессистемным целостностям. Между тем оценка реального происходит в сравнении его с идеальным. Идеалы общественных справедливости, свободы и равенства преломляются сквозь представления каждого культурно-цивилизационного мира, сконцентрированные в его базовых ценностно-смысловых комплексах. В частности, ценностно-смысловые комплексы, лежащие в основании продуктивного социально-экономического развития, – это регулярно воспроизводящиеся духовно-нравственные и мировоззренческие структуры, включающие в себя элементы как кросскультурные, так и специфические для каждого конкретного культурно-цивилизационного мира. Их содержание тесно связано с особенностями ценностных иерархий. В целом тип культуры и тип богатства – два выражения ценностно-стоимостного бытия общества. А всеобщность общественных отношений капитала обеспечивает распространенность капитализированной формы богатства, которое теперь и выступает в том числе как капитал реальный, социальный, etc. Причем если утилитарно-прагматические ценности производны от способа производства непосредственно либо через структуры потребностей, то абсолютные ценности, ценности-идеалы влияют на состояние и развитие экономики как первичные. Смыслы жизнедеятельности – человеческой и культурно-цивилизационных миров – определяют направленность, темпы, формы и очередность трансформации их конкретных характеристик, но сами проявляют себя как сторона ценностного восприятия окружающего мира. При этом духовные отношения, сфера нравственности и морали – не «надстройка», а стержень экономики. Доверие – необходимый элемент здорового социального механизма. Не только «сон разума рождает чудовищ»; гораздо более опасные для человечества химеры могут инициироваться аморальным интеллектом. В истории (в том числе в ее экономической составляющей) осуществляется нравственное содержание, формируемое тысячелетиями взаимодействия и кооперации. За использование же отрицательной моральной силы для реализации своего Сверхпроекта, за насилие над моралью и человечностью всегда следует расплата. Контртрадиционная (т. е. рассудочно сконструированная) система морали на деле становится возвратом к технотронному варварству с господством права сильного, апологией инстинктов и расчеловечиванием общественной жизни. Технократический выигрыш от роста материальных благ и культуртрегерских политтехнологий оборачивается обессмысливанием жизни, обезличиванием человека, превращением его в винтик бездушных бюрократических структур с жестким разделением жизни на время труда и потребления вплоть до высшей степени отчуждения – гибели в нескончаемых конфликтах.
У отчуждения, у несвободы вообще много масок. По мере развития идеи часто утрачивают первоначальный смысл, меняя то сущность, то форму и перенимая черты всё новых своих носителей. Более того, идея может отчуждаться и в сознании одного и того же человека: в большинстве из них содержится потенциал (само)разрушения. Но, бесспорно, многое зависит и от качества базовых ценностно-смысловых комплексов культурно-цивилизационных миров, общественной морали и традиций, и от характера самой идеи. Возмездие обязательно, хоть воздается не всегда виновному, чаще история «бьет по площадям». Вместе с тем идеалы Красоты, Добра, Истины не только формируют представления и установки, но и выводят за пределы актуальной жизни. Причем развертывание виртуальных реальностей повышает арсенал обоюдного давления при взаимопереходах виртуального и реального, одухотворении материального и материализации духовного. Баланс реализма и символики в общественной жизни чутко отражает как общемировые процессы, так и динамику событий внутри культурно-цивилизационного мира, продолжая оставаться важнейшим ресурсом социально-политической идентификации / самоидентификации.
Как известно, у эпох разные камертоны. Меняются как элементы восприятия, так и методология и инструментарий эффективного воздействия. И с изменением условий выживает тот, кто готов и сможет использовать новые тенденции в свою пользу. Ныне, с одной стороны, на авансцену истории вышли информационные ресурсы, несколько сместив когда-то доминировавшие то военные, то экономические аспекты влияния. С другой стороны, трансформировались и сами средства массовой информации: от модели «один – одному» через «один – многим» к варианту «многие – многим»; от наскальных символов через устное и печатное слово, радио и телевидение к социальным сетям со «смайликовой культурой», усиливающей передачу энергетики чувств, а не логики. Public Relations (PR, связи с общественностью, пиар), а также Government Relations (GR, связи с органами государственной власти) становятся важнейшей частью социетального управления и фактором общественного и индивидуального выбора (в том числе стратегического). Динамика использования при этом PR / GR тесно связана с общей трансформацией как социальнополитических, так и технико-технологических условий. PR выступает, с одной стороны, совокупностью социальных технологий, употребляемых в деятельности, направленной на создание и поддержание доброжелательных отношений между организацией или публичной персоной и общественностью, с другой – наукой об управлении общественным мнением с помощью комплекса коммуникативных процессов. Методология пиара характеризует знания и представления о методике осуществления соответствующей деятельности. В методологии пиарологии выделяют философский, общенаучный, специально научный, междисциплинарный и эмпирический уровни (с их специфическими методами и средствами). При этом методы и теории менеджмента в сфере PR / GR коррелируют с их реализацией на практике и подчиняются цели повышения эффективности деятельности. В результате на данный момент успешно применяются методы системные, ситуационные, сравнительно-исторические, абстрактно-логические, вероятностно-статистические и др. Одновременно диапазон эффективных решений в сфере PR/GR-коммуникаций различается для задач системного характера и кризисной деятельности. Дополнительные требования предъявляются к качеству и интенсивности PR/GR-коммуникаций в ситуации множащегося риска (отличной от собственно антикризисной деятельности). Причем асимметричность воздействия информационного простора может быть использована для стимулирования желательных изменений как на индивидуальном, так и на социальном уровне, а особенностью так называемой информационной эры является ее всё более активная роль в социетальном масштабе. Именно поэтому дискредитация технократических рецептов социального управления как нереалистичных, усиление внимания к ценностным ориентациям столь убедительно продемонстрировали, что традиционные организационные подходы не соответствуют постсовременной экономической и технологической структуре общества.
Возможности развертывания исторического процесса при этом включают процессы прогнозируемые и непрогнозируемые, стихийные и целенаправленные, уникальные и закономерные, неуправляемые, самоуправляемые и управляемые, циклично-волнообразные и необратимо-поступательные (как прогрессивные, так и регрессивные). Мультикультурализм и культурно-социальная интеграция различных этнических и культурных групп – это аспекты равноправного взаимодействия и взаимной терпимости, заключающиеся в защите сосуществования и коэволюции разнообразных культур при их проникновении, обогащении и развитии на принципах, признаваемых в данном культурно-цивилизационном мире справедливыми. Для успешного же проведения своей очередной модернизации и эффективного использования механизмов стимулирования желательных трансформаций регион должен культивировать механизмы не «обязывать», «заставлять», «администрировать», а «увлекать», «заинтересовывать», «мотивировать». Соответственно, сохранение и развитие культурно-цивилизационного мира – в умении программировать формы, эффективные для общества в изменяющейся среде, для создаваемых веками народных традиций, исторического опыта, социального наследия. Опасными могут стать попытки как превращения (индивидуального и социального) в элемент иного культурно-цивилизационного мира с утратой собственной самобытности, так и реставрации устаревших форм, неэффективных в новых условиях. Таким образом, ее осуществление в социальной инженерии предполагает слияние науки, искусства и ремесла продуктивного применения коллективного бессознательного и общественного сознания, психологии и идеологии развития (в частности, перемен), выделения управляемых, самоуправляемых и неуправляемых процессов.
Причем сами времена сжатых трансформаций, включающие осуществление кардинальных, парадигмальных скачков, позволяют заметно повлиять как на баланс возможностей и рисков, так и на место в «табели о рангах». Таковым стало, например, порождение человека и формирование им культурно-цивилизационных миров. Сейчас человечество вошло в очередной период открытия для себя новых горизонтов жизнеустройства и социокультурного порядка, механизмов обеспечения безопасности и развития ойкумены. Особое место в детерминации ритмичности и аритмичности, цикличности и направленности развития социохозяйственных целостностей занимает селективность как форма избирательного взаимодействия. Под избирательностью понимается выбор такого движения, которое обеспечивает устойчивость в изменяющихся условиях с учетом внутренней и внешней специфики. Присущие как постсовременному состоянию общественной среды, так и переходному периоду форсированных изменений сумятица смыслов, мгновенное устаревание знаний и любой (природной ли, социальной ли) обстановки и среды жизнедеятельности, отсутствие прочной основы в цикличности процессов требуют умения полагаться на самого себя, готовности к любым возможным переменам, отсутствия сервильности и подобострастия. Однако то, какой именно стороной обернутся эти множественные отличия, часто зависит от качества социокультурного пространства.
Соотношение собственно человеческого, святого и звериного начал в отдельном индивиде и в общественном бытии всякого культурно-цивилизационного мира различно. Вектор подвижности этого баланса формирует разные приоритеты при создании: как в божественном уподоблении при продуцировании / творчестве смыслов, так и в животном – при биологическом репродуцировании / размножении. Звериное начало искушают сытостью, человеческое – справедливостью в обеспечении реализации идеалов свободы, равенства и братства. И путь реформ – направление укрепления собственно человеческого начала в обществе, соответственно, очеловечивания общественной жизни, гуманизации социально-политических и социально-экономических отношений. Отнюдь не формальные конструкты, а качество жизни и возможности творчества опре- деляют прогресс страны, новые же горизонты развития открываются там, где общественное устройство максимально способствует реализации творческого потенциала каждого. Соответственно, выигрышной становится стратегия наращивания собственных преимуществ, а не ликвидации отступлений от внешнего шаблона, стимулирования (в частности, ценностно-смыслового) желательных изменений, а не администрирования с целью выкорчевывания воображаемых недостатков, повышения разнообразия, а не рабского следования единообразию глобальных канонов и штампов. Институциональная память оказывает особенно заметное влияние в точке бифуркации. Выбор «подъем или деструкция» осуществляется сегодня в разнокалиберности малых развилок и текущих решений. Разумеется, при осуществлении мягкого управления социокультурной целостностью нужно учитывать, что ее существование отнюдь не сводится к финансовому аспекту; она не может быть регулируема исключительно финансовыми средствами. Между тем при учете лишь наиболее очевидных связей и механизмов (например монетарных) упускается из виду широкий спектр реакций общества как социально-политической и социокультурной целостности, мощная база обеспечения качества экономического роста, которая кроется в потенциале социальной антропологии.
Таким образом, именно обеспечение адекватного вызовам истории стратегического социетального управления (а вовсе не обладание мощным потенциалом как таковым) является решающим фактором истории. Ярчайшее проявление инфантилизма – неготовность мириться с несовершенством мира: «если я тебя придумала, стань таким, как я хочу»… Нет смысла изощряться в украшении парусников, когда на горизонте грозят дредноуты. От инфантилизма же – и готовность обострения ради очередной конструкции идеала, бескомпромиссной победы, тем более ради кланово-семейной прибыли. Совершенным может быть только несбывшееся, неосуществленное: оно не обременено червоточиной реальности и оставляет надежду на идеалы в будущем. И достижение стратегическим управлением соответствия возможностям и рискам «умного общества» требует институционального упрочения социально-экономических структур развития, коррекции отношений на осях «общество – государство – бизнес» и «человек – культурно-цивилизационный мир», формируя объективный запрос на соборность как качество и уровень взаимодействия. Характер стратегического управления для обеспечения этого приобретает кардинальное значение.
Выход за границы прежнего «коридора свободы» может обернуться не только прорывом к позитивным постиндустриальным перспективам, но и возвращением к социальному каннибализму и варварству. Эмоциональные же аспекты при принятии и реализации стратегических решений тесно связаны как с характером общественного бессознательного, так и с состоянием общественных психологии и идеологии: «Вера рождает надежду. Надежда рождает дух. Дух ведет в будущее». Сегодня именно социальный уровень информационных воздействий часто оказывается наиболее эффективным направлением обеспечения своих интересов, он испытывает на излом качество не только государственности, но и самой социокультурной ткани страны, базируясь на фундаменте ценностно-смысловых комплексов. С одной стороны, особенно уязвимы к его использованию для проведения желательных изменений трансформирующиеся государства. С другой стороны, эпоха кардинальных перемен глобального уровня породила искус для финансово богатых государств разрешить свой кризис за счет его перелива с фундаментальным изменением устоявшегося стратегического баланса. Основная проблема – отделение незаменимого и заменяемо-волнообразного, уникального и стандартного – в стратегии, тактике и оператике преобразований. Культивирование социокультурной ткани общества, социальности, выросшей из базовых ценностно-смысло- вых комплексов культурно-цивилизационного мира, становится важнейшим направлением обеспечения общественной безопасности. Для этого в условиях глобализации и формирования технологий смещения – как восприятия реальности общественным и индивидуальным сознанием, так и самой реальности в нужном направлении за счет стимулирования желательных трансформаций – требуется возможность качественного доступа к нужной информации, защиты от негативных информационных воздействий. И базирующиеся на фундаментальных уровнях человеческой личности, тесно связанных с ценностно-смысловыми комплексами, механизмы и социальные технологии «мягкой» силы и гибкого управления открывают дополнительные возможности, ликвидируя определенные ограничения в продуктивной работе с реальностью при организации межсистемных информационных потоков: если жесткая сила основана на принуждении, то мягкая – на формировании привлекательности для объекта влияния. Предиктором же в момент бифуркации может стать и слабое воздействие в ключевой точке общества.
Список литературы Информационное давление на нынешнем этапе конкуренции культурно-цивилизационных миров
- Авилов А. В. Рефлексивное управление. Методологические основания. М.: ГУУ, 2003. 174 с.
- Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. М.: Сов. радио, 1974. 272 с.
- Афанасьева В. В., Анисимов Н. С. Нелинейное развитие социума: постнеклассический анализ // Власть. 2013. № 1. С. 68–71.
- Ачлей А. Битва глобальных проектов: в 3 ч. М.: Волант, 2011. Ч. 1. 240 с. Ч. 2. 240 с. Ч. 3. 320 с.
- Валлерстайн И. Геополитические миро-системные изменения: 1945–2025 годы // Вопросы экономики. 2006. № 4. С. 67–82.
- Гусельцева М. С. Культурно-историческая психология: от классической – к постнеклассической картине мира // Вопросы психологии. 2003. № 1. С. 99–115.
- Денисов А. А., Денисова Е. В. Краткий очерк основ теории управляемой конфронтации // Информационные войны. 2014. № 1 (29). С. 24–33.
- Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2007. 864 с.
- Кочеткова А. И. Основы управления в условиях хаоса (неопределенности). М.: Рид Групп, 2012. 624 с.
- Ларина Е. С., Овчинский В. С. Мировойна. Все против всех. Новейшие концепции боевых действий англосаксов. М.: Книжный мир, 2015. 416 с.
- Люттвак Э. Н. Стратегия. Логика войны и мира. M.: Рус. фонд содействия образованию и науке; Ун-т Дмитрия Пожарского, 2012. 392 с.
- Манойло А. В. Цветные революции в Северной Африке и современные технологии психологического управления конфликтами // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеці та оборони. 2012. № 3. С. 87–93.
- Моисеева И. Ю. Концепция самоорганизации в контексте постнеклассической парадигмы // Вестник Оренбургского государственного университета. 2005. № 11. С. 80–86.
- Савин Л. В. Новые способы ведения войны: как Америка строит империю. СПб.: Питер, 2016. 352 с.
- Ткаченко С. В. Информационная война против России. СПб.: Питер, 2011. 224 с.
- Шедяков В. Е. Возможности и риски эпохи: научно-исследовательская рефлексия – рефлексивное управление – рефлексивная модернизация // Management of modern socio-economic systems / edited by J. Žukovskis, K. Shaposhnykov; Aleksandras Stulginskis University, Business and Rural Development Management Institute. Kaunas, Lithuania: Baltija Publishing, 2017. Vol. 1. Р. 197–214.
- Шедяков В. Е. Метаморфозы концептуальной власти под влиянием исторических вызовов постглобализма и сетецентризма медиапространства // Politicus. 2017. Вип. 4. С. 94–100.
- Шедяков В. Е. Социальный уровень информационного влияния как аргумент в стратегической конкуренции культурно-цивилизационных миров // Гілея. 2014. Вип. 91 (12). С. 249–258.
- Шедяков В. Е. Экономика управляемая, самоуправляемая и неуправляемая // Integrated business structures: models, processes, technologies: Proceedings of the International Scientific Conference / Moldova State University, Faculty of Economic Sciences. Chisinau, Republic of Moldova, November 25, 2016. P. 5–7.
- Шедяков В. Є. Стратегічна конкуренція макрорегіонів і забезпечення підйому якості інформаційної взаємодії // Вісник СевНТУ. 2012. Вип. 136. Політологія. C. 199–203.