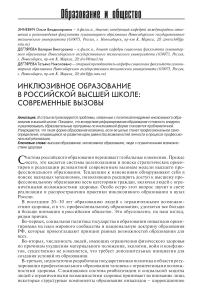Инклюзивное образование в российской высшей школе: современные вызовы
Автор: Зиневич Ольга Владимировна, Дегтярева Валерия Викторовна, Дегтярева Татьяна Николаевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Образование и общество
Статья в выпуске: 5, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье актуализируются проблемы, связанные с политикой внедрения инклюзивного образования в высшей школе. Показано, что вследствие реформирования образования готовность внедрять и реализовывать образовательные программы по инклюзивной форме становится проблематичной. Утверждается, что такая форма образования возможна, если ее целью станет профессиональное самоопределение, опирающееся на развитие идеи равенства возможностей личности в процессе профессиональной реализации.
Высшее образование, инклюзивное образование, люди с ограниченными возможностями здоровья
Короткий адрес: https://sciup.org/170168417
IDR: 170168417
Текст научной статьи Инклюзивное образование в российской высшей школе: современные вызовы
С истема российского образования переживает глобальные изменения. Прежде всего, это касается системы целеполагания и поиска стратегических ориентиров в реализации релевантной современным вызовам модели высшего профессионального образования. Тенденции к изменениям обнаруживают себя в поиске валидных механизмов, позволяющих расширить доступ к высшему профессиональному образованию всем категориям граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Особо остро этот вопрос звучит в свете реализации и распространения практики инклюзивного образования в вузах России.
В последние 20–30 лет образованию людей с ограниченными возможностями здоровья, и в т.ч. профессиональному образованию, уделяется все больше и больше внимания в российском обществе. Это обусловлено, на наш взгляд, рядом причин.
Во-первых, социальная политика государства в образовании инвалидов ориентирована на идеи мирового сообщества и национальную доктрину образования РФ, которые провозглашают принцип равных возможностей образования для всех.
Во-вторых, численность людей, имеющих ограничения физического здоровья по причинам ухудшения материального положения, экологии, войн и конфликтов, существенно не изменяется, что требует дополнительных инициатив для создания условий их образования.
В-третьих, недостаточно разработана государственная политика в области регулирования профессионального образования человека с ограниченными возможностями здоровья. Сложившаяся система реабилитации и социальной защиты людей с ограниченными возможностями здоровья принимает во внимание лишь некоторые структурные компоненты образования инвалидов – коррекционное и реабилитационное. Специфика образовательного процесса не является предметом их внимания и контроля. В связи с этим согласованность образовательного и реабилитационного процессов зачастую становится проблематичной. Тем не менее будет справедливым признать, что настоящий федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 48, ст. 79) обязует субъектов профессионального образования создавать необходимые условия для обучения, разрабатывать адаптивные образовательные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако ясности в реальной практике реализации и согласования адаптивных программ в структуре основных образовательных программ высшего образования, к сожалению, нет.
Россия недавно ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов 1 , являющуюся ведущим международным документом, определяющим стратегию, программы и рекомендации по праву на образование. Для достижения целей ЮНЕСКО по обеспечению образования для всех именно этот документ имеет особое значение, т.к. включает статью о системе инклюзивного обучения (ст. 24). Признавая право инвалидов на образование, страны-участницы обязуются применять инклюзивное образование на всех уровнях и в течение всей жизни человека.
В 2014 г. в Государственной думе РФ прошли парламентские слушания на тему «Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в РФ: проблемы отрасли и общества»2. В качестве одной из приоритетных задач названа разработка и реализация единой долгосрочной согласованной политики в области инклюзивного образования, что позволит «построить в России непрерывную инклюзивную образовательную вертикаль, начиная с включения в образовательную среду детей-инвалидов раннего возраста и заканчивая получением среднего специального и высшего профессионального образования, а также обеспечить законодательно право на равное, доступное, качественное образование для всех». В основе нового курса политики в области инклюзивного образования лежат различные федеральные законы: № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», № 122 «Об основах социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов», «О ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов» и, наконец, № 272 «Об образовании в Российской Федерации». В основу этих законов положен единый подход к социальной и образовательной политике – признание и осуществление права на образование, труд, социальную защиту и реабилитацию. В указанных документах сформулированы цели, которых следует достичь в процессе образования людей с ограниченными возможностями здоровья. По сути, первая цель – это образование, и вторая, по счету, но не по важности, – социальная адаптация. В законе «Об образовании в Российской Федерации» читаем: «В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления: 1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений раз -вития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»1. Таким образом, согласно закону система российского образования, в т.ч. и высшего, должна функционировать не только как образовательный, но и как социально-реабилитационный институт, что, к сожалению, далеко не всегда осуществимо на практике. Выполнение институтом образования своей третьей (социальной) миссии является непростой задачей не только для России, чья система образования находится в состоянии реформирования, но и для тех стран, которые осуществили реформы и уже достаточно давно занимаются вопросами содержания и реализации третьей (социальной) миссии высшего образования [Зиневич, Балмасова 2015]. В сущности, задача высшей школы заключается в создании и развитии социокультурной инфраструктуры в образовательном учреждении во взаимосвязи с институтами трудоустройства, здравоохранения, культуры и отдыха. То есть, необходимы особые образовательные, реабилитационные, правовые сервисы, которые должны гарантировать учащимся, что основанием для возможных ограничений не является сама инвалидность [Mitchell 2005; Зиневич, Дегтярева 2015]. Российская политика в области образования людей с ограниченными возможностями здоровья прошла путь от сегрегации к расширению доступа к образованию (widening participation), интеграции, мейнстриминга (mainstreaming), инклюзии (от англ. inclusion – включение), вследствие чего в первую очередь изменялся организационный дизайн социальной сферы – происходит деинституционализация закрытых учреждений, развитие интегрированного образования (совместного обучения людей с обычным ходом развития и людей с особыми нуждами), увеличение доступа людей с ограниченными возможностями в сферу занятости и т.д.2
В советский и постсоветский периоды именно высшее профессиональное образование для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья не имело разветвленной сети . Если возможность получения среднего профессионального образования для такой категории существовала именно в сегрегационной форме (профессиональные училища для инвалидов), то высшее образование получали только те, кто был способен освоить содержание образовательных программ высшей школы. Профессиональное образование в специализированных учебных заведениях осуществлялось, как правило, во взаимодействии с государственной службой реабилитации. Специально создаваемые условия (приспособление территории и помещений, специальное техническое оборудование учебного процесса, специальное оснащение аудиторий, лабораторий, библиотек и т.д.) максимально благоприятствовали развитию профессиональных знаний и умений в координации с выполнением индивидуальной программы реабилитации, способствовали созданию оптимальной развивающей и поддерживающей медико-психологической и педагогической среды в учебном заведении. Специализированное обучение в наибольшей степени обеспечивало дифференцированный подход к состоянию здоровья учащегося с инвалидностью, профилактике и коррекции нарушений в психолого-педагогической сфере, однако в значительно меньшей степени способствовало их последующей интеграции в социум.
Начало инклюзивному подходу к практике реформирования профессиональ- ного образования инвалидов в России было положено в 1934 г., когда в МГТУ им. Н.Э. Баумана впервые по специальным программам, но в интегрированных условиях стали обучаться инвалиды по слуху. Жизнеспособность «бауманского» подхода доказана временем: уже в течение почти 80 лет МГТУ им. Н.Э. Баумана является высшим техническим учебным заведением общего типа, где реализована система высшего образования инвалидов в обычной образовательной среде. При этом уровень знаний и высокая квалификация выпускников с ограниченными возможностями здоровья позволяет им занять достойное место в профессиональной деятельности. В начале 90-х гг. прошлого столетия в связи с социально-экономической трансформацией общества возникла необходимость реформирования высшего профессионального образования инвалидов как базового элемента социальной защищенности этой группы лиц путем повышения их конкурентоспособности на рынке труда. В связи с этим в 1994 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана создается Головной учебно-исследовательский и методический центр профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью – структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана. Цель создания Центра состояла в осуществлении комплексной реабилитации инвалидов и иных лиц с дефектами слуха путем обеспечения им возможностей получения высшего профессионального образования по широкому спектру направлений и специальностей университетской подготовки в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Несмотря на отдельные прорывы в этой области, сложно говорить о том, что практика инклюзии успешно внедряется или получает реальное широкое распространение. Слишком много остается препятствий и нерешенных проблем [Зиневич, Дегтярева 2014]. Критика инклюзивного образования зачастую основывается на убеждении в неспособности социальных субъектов и институтов решать задачи полноценного включения в силу исторически сложившегося и закрепленного в традиции отрицательного отношения к инвалидам. Западные исследователи называют это проблемой социального гражданства человека с инвалидностью [Mitchell 2005; Barnes, Merce 2004; Walsh, Stephens, Moore 2000]. А ее решение мы связываем с созданием единого коммуникативного пространства социализации в целом.
Вызовы для инклюзивной образовательной практики, с одной стороны, отражают вызовы и проблемы, которые испытывает российская высшая школа, c другой – имеют свое специфическое содержание, связанное с разноплановостью современных функций высшей школы и их рассогласованностью, о чем уже упоминалось выше. Во-первых, современная система высшего образования является отражением современных трансформаций в сторону менеджеризации, борьбы за альтернативные ресурсы, рационализации отношений между участниками образовательного процесса, сокращения профессиональной автономии, усиления формализации, увеличения роли технократических подходов к профессии, распространения системы социального контрактирования, конвейеризации и пр. В такой ситуации инклюзивное высшее образование выглядит «нерентабельным», поскольку конечная цель – трудоустройство людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья – проблематична. А значит, теряется сам смысл профессионального образования. По данным Федеральной службы государственной статистики за 2015 г. только половина поступающих студентов с инвалидностью справляются с образовательными программами и выпускаются 1 .
Кроме того, невысока и доля выпускников, работающих по специальности. А это значит, что рынок профессий для такой группы ограничен 1 .
Во-вторых, образовательная услуга – это сложная услуга, которую оказывают один или несколько специалистов и которая не приводит к немедленному результату, но может иметь фиксируемые промежуточные результаты. Цепочка целей, средств и результатов их достижения должна быть заложена в программу инклюзивной подготовки.
И наконец, высшее образование идет по пути экстенсивного развития, отодвигая на второй план расширение «области познаваемого» [Вернадский 2001], а приоритетом становится знание, способное решать задачи современной экономики здесь и сейчас. В условиях, когда образование ориентировано на компетенции сегодняшнего дня, мобильность рынка труда влечет за собой изменения в учебном процессе. Нивелируется одна из основных особенностей института образования – ориентация на перспективу, развитие. Смена специализаций для людей с ограниченными возможностями здоровья не может идти в том же темпе, что и для здоровых. Ведь в сущности инклюзия в высшей школе скорее уникальный проект, нежели конвейерная практика. Постановка задачи для высшего образования в ракурсе удовлетворения потребностей конкретного бизнеса, производства, различных компаний порождает идею «утилитарного специалиста», не готового решать профессиональные задачи в иных условиях. Поскольку современная экономика переживает многочисленные кризисы и не успевает реагировать на вызовы современности, возникает вопрос о необходимости такого догоняющего обучения в высшей школе. Таким образом, современная высшая школа есть некая глобальная сетевая научно-исследовательская, бизнес-ориентированная система. Это связано с задачами определенного ресурсообе-спечения. Такой институт должен обладать не только экономическим, но и научным потенциалом для достижения заявленных целей. Тем не менее не каждый индивид способен адаптироваться к такой полифункциональной модели образования, не говоря уже о человеке с ограниченными возможностями здоровья. Все это заставляет нас пересматривать значение и значимость инклюзии в таком образовательном пространстве.
Развитие инклюзивного образования предполагает качественное и планомерное изменение системы образования в целом, учитывающее образовательные потребности всех участников образовательного процесса, а именно специалистов, здоровых обучающихся и инвалидов. Вызовы, о которых говорилось выше, адресованы и политикам, и экспертам, дискурс которых неизбежно вбирает в себя результаты научных исследований. Профессиональное мышление требует определенной семантики деятельности, выражающейся в разъяснении ключевых понятий, связанных с практикой инклюзии, таких как равенство, право, социальная адаптация, адаптивная среда, адаптивная программа, сопровождение. Более существенным видится осознание субъектами этого процесса такого понятия, как социальная дистанция. Ведь инклюзия/эксклюзия, по терминологии Г. Зиммеля, как некоторая «социальная дистанция, “смесь” близкого и отдаленного, мобильность внутри границ группы, награждает индивида формальным статусом “чужака”. Так, чужак тем ближе, чем с большим числом членов группы он взаимодействует; чужак тем дальше, чем меньше он (его поведение) соответствует ожиданиям членов группы относительно данного статуса» [Огане 1994]. О влиянии окружения на развитие личности много сказано в классических социологических, социально-психологических теориях, причем не только в позитивном ключе, но и в негативном. Собственно, окружение может в равной степени как стимулировать и активизировать внутренние адаптивные ресурсы личности, так и подавлять эту личность. Однако позволим себе еще раз подчеркнуть, что успешность реальных контактов, совместных практик для развития и становления личности требует преодоления социальной дистанции, ориентации на совместность и даже солидарность. В контексте инклюзивной практики важно оценить, в какой «зависимости» друг от друга будут находиться участники такого образовательного процесса. Собственно, вопрос здесь стоит о ценности и/или рациональности такой образовательной формы не просто в ракурсе ее «полезности» для абстрактного общества, а для конкретного участника образовательного процесса в высшей школе. В сущности, вопрос заключается в разведении двух понятий – равенства ресурсов и равенства возможностей. При этом важно понять: равенство понимается как цель или как ресурс для достижения определенной цели, скажем, улучшения благосостояния? Так, инклюзивное образование в высшей школе становится проблемой, которую мы связываем с отсутствием четкого представления со стороны всех участников образовательного процесса (студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, студентов с нормой здоровья, профессорско-преподавательского состава, администрации университетов и др.) о его целях, задачах и результатах именно в свете современной социально-экономической ситуации. Тем не менее для нас очевидно, что инклюзивная форма образования в высшей школе возможна, если она будет рассматриваться как адаптивно-адаптирующая система, целью которой является профессиональное самоопределение, опирающееся на развитие идеи равенства возможностей личности в процессе профессиональной реализации.
Список литературы Инклюзивное образование в российской высшей школе: современные вызовы
- Вернадский В.И. 2001. Задачи высшего образования нашего времени. -Вернадский. Антология гуманной педагогики. М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили. 224 с
- Зиневич О.В., Дегтярева В.В. 2014. Круглый стол «Инклюзивное образование студентов с ограниченными возможностями здоровья: мировой и российский опыт». -Философия образования. № 3. С. 249-264
- Зиневич О.В., Балмасова Т.А. 2015. «Третья миссия» и социальная вовлеченность университетов: к постановке проблемы. -Власть. № 6. С. 67-72
- Зиневич О.В., Дегтярева В.В. 2015. Инклюзивное образование как форма реализации политики инвалидности в современных условиях: к постановке проблемы. -Философия образования. № 1. С. 115-125
- Огане Т. 1994. Социология на рубеже веков. -Социологический журнал. № 2. С. 27-36
- Barnes С., Merce G. 2004. Theorising and Researching Disability from a Social Model. -Implementing the Social Model of Disability: Theory and Research. The Disability Press. P. 1-17
- Mitchell D. 2005. Contextualizing Inclusive Education: Evaluating Old and New International Perspectives. London; New York: Routledge. 292 p
- Walsh M., Stephens P., Moore St. 2000. Social Policy and Welfare. London: Stanley Thornes (Publisher) Ltd. 375 p