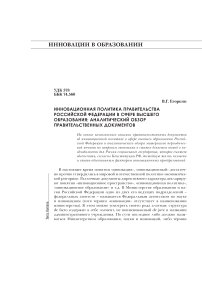Инновационная политика правительства российской федерации в сфере высшего образования: аналитический обзор правительственных документов
Автор: Егоркин Владимир Георгиевич
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Инновации в образовании
Статья в выпуске: 1 (6), 2008 года.
Бесплатный доступ
На основе комплексного анализа правительственных документов об инновационной политике в сфере высшего образования Российской Федерации и аналитического обзора материалов периодической печати по вопросам экономики в статье делается вывод о необходимости для России социального государства, которое сможет обеспечить, согласно Конституции РФ, достойную жизнь человека и стать объективным фактором инновационных преобразований.
Короткий адрес: https://sciup.org/14042439
IDR: 14042439 | УДК: 378
Текст научной статьи Инновационная политика правительства российской федерации в сфере высшего образования: аналитический обзор правительственных документов
Terra Humana
В настоящее время понятия «инновация», «инновационный» достаточно прочно утвердились в мировой и отечественной политико-экономической риторике. Различные документы директивного характера декларируют понятия «инновационное пространство», «инновационная политика», «инновационное образование» и т.д. В Министерстве образования и науки Российской Федерации одно из двух его ведущих подразделений – федеральных агентств – называется Федеральным агентством по науке и инновациям (хотя термин «инновации» отсутствует в наименовании министерства). В этом можно усмотреть своего рода алогизм: структура de facto содержит в себе элемент, не поименованный de jure в названии административного учреждения. По сути последнее либо должно называться Министерством образования, науки и инноваций, либо термин
«инновации» следует вывести из наименования федерального агентства, переведя его из статуса структурообразующего элемента, например, в сферу целеполагания образовательной и научной деятельности, поскольку инновации – это результат инновационной деятельности, составляющей содержательную сторону образования и науки; шире – это результат и одновременно основа инновационной экономики, а потому сами по себе они бессмысленны.
Одним из первых нормативно-правовых государственных актов в связи с инновациями можно назвать Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», принятый Государственной Думой РФ 12 июля 1996 года. Статья 2 «Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе» не содержит определения понятия «инновации», хотя этот феномен, давно уже наделенный парадигмальным статусом в экономической политике высокоразвитых капиталистических стран, должен, по всей вероятности, не только определяться в ключевых понятиях российского закона, но и сделаться смыслообразующим концептом его содержания. Однако текст документа «не видит» понятие «инновации», за исключением Главы IV «Формирование и реализация государственной научно-технической политики», где в двух статьях упоминается «инновационная деятельность», связанная то с научной и научно-технической деятельностью, то в парах с той и другой по отдельности.
В первом случае инновационной деятельности придается статус одного из основных принципов государственной политики:
-
«2. Государственная научно-техническая политика осуществляется, исходя из следующих основных принципов:
…стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности через систему экономических и иных льгот;
развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности субъектов Российской Федерации…»1.
Во втором случае инновационная деятельность упоминается в статье о полномочиях властных органов РФ в области формирования и реализации государственной политики:
-
«1. К ведению органов государственной власти Российской Федерации относятся:
-
2. К совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации относятся:
-
4. По вопросам совместного ведения органы государственной власти Российской Федерации… взаимодействуют с соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации в форме:
…содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности субъектов Российской Федерации…
…размещение объектов научно-технического потенциала и создание инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности…
Общество
подготовки совместных предложений о совершенствовании организационно-экономического механизма научной и инновационной деятель-ности»2.
Согласно Закону, с одной стороны, инновационная деятельность провозглашена основным принципом государственной политики РФ в сфере науки и техники, а следовательно – общим концептом, действующим на всех уровнях власти. С другой стороны, компетенции по реализации инновационной деятельности постулировались как принадлежащие лишь центральным властным органам. Субъекты РФ в тексте Закона таких полномочий не имеют, но могут осуществлять их лишь при взаимодействии с центральной властью, причем довольно ограниченно: путем создания «инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности» и «подготовки совместных предложений о совершенствовании организационно-экономического механизма научной и инновационной деятельности».
Такие формулировки вызывают закономерные вопросы. Отсутствие инновационной деятельности в полномочиях субъектов РФ – это выражение недоверия центральной администрации к возможностям субъектов РФ в данной сфере, или просто результат ошибки разработчиков Закона, которая и создает впечатление недоверия? Ведь исполнители инновационной деятельности как в теоретическом, так и в практическом аспектах реализуют ее на местах, т.е. в субъектах РФ. Значит, инновационная деятельность должна быть совершенно ясно и однозначно включена в самостоятельную компетенцию субъектов РФ, а не только в условия опеки центральных властных органов.
Еще один вопрос: почему в статье об условиях реализации допущен разрыв вполне логичной триады науки, научно-технической и инновационной деятельности (хотя последняя немыслима даже и частично отделенной от науки и научно-технической деятельности)? Текст Закона постулирует в одном случае создание инфраструктуры только научно-технической и инновационной деятельности, а в другом – подготовку предложений по совершенствованию только научной и инновационной деятельности. Если точно исполнять этот нормативно-правовой акт, то в первом случае инновационная структура будет содержать в себе только научно-технические достижения и, следовательно, остальные отрасли науки (например, фундаментальные разработки) останутся нереализованными. Во втором случае, напротив, вне поля зрения останется научно-техническая сфера.
Terra Humana
Вышеприведенные примеры могут свидетельствовать лишь об одном: десять лет тому назад природа и сущность инноваций хотя и не вполне были понятны даже разработчикам государственного нормативно-правового документа, однако необходимость инновационных изменений в экономике страны уже начала осознаваться, о чем свидетельствует появление соответствующих понятий в некоторых статьях Закона. В этой связи, Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» можно считать точкой отсчета в последовавшем процессе осмысления инноваций учеными, управленцами, политиками.
Спустя два года появился модельный закон «Об инновациях», принятый Межпарламентским Комитетом Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, принятый 28 февраля 1998 года с целью, обозначенной в его полном наименовании, – предложить модель странам–участницам Комитета для национального законодательства в сфере инноваций. Закон раскрывает основные понятия инноватики и определяет механизмы и условия инновационной деятельности3. В той или иной мере основные положения закона были использованы в инновационном законотворчестве Правительства Российской Федерации. В этом же году был принят нормативно-правовой акт под названием «Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы», одобренный постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 832. Во Введении к этому документу определяются ключевые термины Концепции, в частности:
«Инновация (нововведение) – конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности»4. Нетрудно заметить, что определяемое понятие, адаптируемое к российской действительности, содержательно напоминает давно знакомое новаторство , правда без констатации его положительной роли в обществе. Такое понимание может быть весьма жизнеспособным концептом, определяющим поступательное движение России в преодолении затяжного кризиса, охватившего все стороны ее бытия.
Эта и другие дефиниции ключевых понятий дают основу для понимания сути дела и одновременно формируют семантическое поле инноваций, что создает эпистемологические предпосылки для проведения государственной инновационной политики.
В Концепции дана объективная характеристика экономических условий страны, которые оставляли желать много лучшего. В частности, отмечены «быстрое сокращение производственного потенциала и уменьшение затрат на его обновление... В большей части он физически изношен и морально устарел»; снижение инновационной активности «под воздействием низкого платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию как со стороны государства, так и со стороны негосударственного сектора экономики»; сокращение объемов производства «наукоемкой продукции»; «значительный физический и моральный износ производственного аппарата, не позволяющий выдержать конкуренцию с западными производителями даже на внутреннем рынке» и др.5. Непредвзятый анализ состояния отечественной экономики приводит к выводу о том, что «инновационная деятельность в России переживает трудные времена»6. В этой связи Концепция ставит задачу обеспечения « инновационного прорыва » как государственных организаций, так и организаций других форм собственности7.
Общество
Такой «прорыв» предполагает «повышение эффективности использования научных разработок и внедрение результатов фундаментальных и прикладных исследований в производство»8. В связи с этим Концепция определяет ряд инновационно-производственных мер, призванных вывести Россию из кризиса, освободив отечественный рынок от «интенсивной импортной интервенции»9.
Но, несмотря на ряд директивных мер, вполне соответствующих поставленной задаче «прорыва», положение в российской экономике существенно не изменилось: последняя не стала инновационной, «прорыва» не произошло, «импортная интервенция» продолжается. Среди причин такого положения мы можем выделить следующие. Прежде всего, авторы Концепции полагали, что в 1998 году «инновационная деятельность в России переживала трудные времена». На самом деле, ситуация была иной, гораздо более худшей: в тот период инновационная деятельность в масштабах целой страны просто не существовала (за исключением каких-то отдельных явлений). Об этом, кстати, свидетельствует и текст закона «О науке и государственной научно-технической политике», где инновациям отведено более чем скромное место, и сама Концепция как федеральный документ, призванный осознать феномен инноваций первично (недаром во Введении этого акта присутствует целый ряд определений ключевых понятий разъяснительного характера) и узаконить меры по созданию инновационной инфраструктуры.
Следовательно инновационную деятельность нужно было не совершенствовать, а организовать заново, создать в действительно тяжелейших условиях развала экономической, социально-политической и культурной жизни России. Если бы разработчики Концепции правильно оценили и озвучили социальную ситуацию, то основная логическая посылка могла стать иной, равно как и ряд предложенных в Концепции решений. В частности, можно было избежать наивной апелляции к помощи «организаций других форм собственности» в деле «инновационного прорыва». Какие же именно «другие формы собственности» помимо государственных имеются в виду? Очевидно, и прежде всего наиболее распространенные в постсоветской России организации, находящиеся в частной собственности, тем более, что в тексте последующих документов об инновациях неоднократно встречается обращение к частному предпринимательству.
Terra Humana
По мнению авторов Концепции, представители частного бизнеса должны стать непременными естественными участниками «инновационного прорыва». Но насколько могут быть заинтересованы предприниматели в таком участии? По этому поводу высказал свое мнение российский ученый-экономист А. Айвазов в ходе анализа проблемы сырьевой ренты: «… Присвоение значительной части сырьевой ренты дает возможность сырь-евикам не 20–30 % прибыли (как в нормальной рыночной экономике), а 200–300. […] А зачем нефтяникам заниматься инновациями, новыми технологиями, повышать эффективность добычи нефти, когда они и так, ничего не делая, получают 300% прибыли?»10.
Такие суперприбыли, по мнению А. Айвазова, стали возможными, во-первых, потому, что в России существует «не рынок, а… «муляж рынка», представляющий собой «извращенную рыночную экономику, где отдельные рынки не сливаются в единое целое (как это и должно происходить), а существуют независимо друг от друга и организуются лишь в интересах предпринимателей»11.
Следовательно, одной из важнейших причин провала «инновационного прорыва» в российской экономике является фактическое отсутствие нормального рынка, место которого занимает его подобие, «муляж», созданный в интересах предпринимателей-монополистов. В свою очередь, те не желают вкладывать деньги в инновационное наукоемкое производство, поскольку их прибыли и без того баснословны. Но, может быть, так обстоит дело только в добывающей промышленности, у «сырьевиков»? Ответ на этот вопрос можно найти в выступлениях в периодической печати многочисленных специалистов: политиков, экономистов, деятелей науки, культуры и образования. Среди наиболее характерных оценка депутата Государственной Думы трех созывов И. Грачева: «…Одна из причин, почему знания не превращаются в товар, в инновации, заключается в том, что внутренний рынок потребления знаний в России чрезвычайно невелик. Если оценивать в целом, то рынок инноваций окажется очень скромным – всего около 10 млрд долларов. Для того чтобы инвестировать в эту отрасль 50–60 млрд долларов (то есть сопоставимо с сырьевыми отраслями) надо продавать товаров на порядок больше – на 500 млрд долларов. Даже если рассчитывать на меньший объем продаж (в пределах 200 млрд), то и таких рынков внутри страны пока что нет. И долго еще не будет»12.
Таким образом, будучи несомненным шагом вперед в теоретическом осмыслении на государственном уровне проблемы инноваций и инновационной политики, «Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы», призванная стать директивным документом в «инновационном прорыве» отечественной экономики, на деле не справилась со всеми поставленными задачами, поскольку выразила недопонимание реальной расстановки социальных сил и их интересов в экономике страны, показала известную ограниченность в видении подлинной природы российского рынка, не преодолела узкотехнократический характер предложенных мер, упустив из виду может быть самую главную проблему: создание нравственной экономики и политики, которые смогли бы стать подлинной основой эффективной инновационной деятельности.
Вместе с тем Концепция сыграла и свою положительную роль, став необходимой стадией осмысления экономической ситуации, а также природы, функций и целей инноваций и инновационной политики государства. Внимание властных структур к проблемам инноваций в какой-то степени стимулировало широкое обсуждение инновационной проблематики в газетной и журнальной периодике, исследование ее в монографиях и научных статьях, анализ на разного рода форумах – от административных до научных. Этот документ вызвал к жизни другие нормативно-правовые акты Правительства, связанные с инновациями.
Общество
Одним из них стала «Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2005 года № 1340-р. Среди директивных мер по модернизации образования нашла свое место и инновационная тематика. В качестве обоснования «соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социальноэкономического развития Российской Федерации» Концепция выделяет «основное условие усиления политической и экономической роли России и повышение благосостояния ее населения», которым «является обеспечение конкурентоспособности страны. В современном мире, идущем по пути глобализации, способность быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции становится важнейшим фактором успешного и устойчивого развития»13.
Анализируя ситуацию в сфере российского образования, Концепция отмечает его несоответствие современным требованиям:
«…Содержание образования и образовательные технологии становятся все менее адекватными современным требованиям и задачам обеспечения конкурентоспособности российского образования на мировом рынке образовательных услуг»14.
Эту ситуацию Концепция намерена преодолеть с помощью создания «инновационной экономики знаний, инвестиционных проектов и наукоемких технологий» – «экономики завтрашнего дня». Важно отметить, что «широкое применение инновационных технологий», «развитие инновационной сферы» в образовании рассматривается документом как приоритетная тенденция модернизации, полагающаяся в основу целого ряда смыслообразующих концептов, таких как «непрерывное профессиональное образование», «общенациональный университет», «базовый (системообразующий) вуз», «интегрированное учебное заведение», «университетский комплекс», «исследовательский университет (учебно-научно-исследовательский комплекс)», «экспорт образовательных услуг», – элементов, составляющих инновационную инфраструктуру в образовании15. Такие концепты призваны, в первую очередь, обеспечить модернизацию структуры образования, трансформировав ее тем самым в инновационную инфраструктуру и субстанциировав изменения качества образования, где решающее слово должно принадлежать инновационному обучению, в свою очередь, призванному создать парадигмальные коды модернизированной российской педагогики и образования.
Terra Humana
Таким образом, Концепция последовательно, взвешенно и аргументированно обосновывает и проводит в качестве движущего механизма модернизации идею инноваций, закладывая ее в базис образовательной политики Минобрнауки РФ. Этот документ явился руководством для последующей директивной и практической конкретизации инновационной политики как Министерства, так и вузов Российской Федерации.
Следующим шагом в разработке инновационной политики Правительства РФ стал документ «Стратегия развития науки и инноваций в Россий- ской Федерации на период до 2015 года», утвержденный Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике Минобрнауки РФ 15 февраля 2006 года. Это весьма объемная, всесторонне разработанная программа развития инноваций в сфере науки и образования. По сути Стратегия выступает едва ли не первой после 16-летнего перерыва моделью долгосрочного государственного плана, содержащего в себе постановку и описание системной проблемы, цель, задачи, способы, результаты ее решения, критерии оценки направления, риски, этапы и сроки реализации, источники и механизмы финансирования, а также порядок мониторинга выполнения Стратегии и контроля за ходом ее осуществления.
Целью Стратегии является «формирование сбалансированного сектора исследований и разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста»16.
Заметим, что формулировка цели не содержит образовательного аспекта, однако в содержании Стратегии вопросам образования и инноваций в этой сфере уделено значительное внимание. Так, в паспорте документа, в разделах «Разработка и реализация новых программ» (подразделы «Ведомственные целевые программы «Ориентированные фундаментальные исследования в вузах России на 2007–2009 годы» и «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 годы)» и «Осуществление программ фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности») предусматриваются такие меры инновационной образовательной политики, как «содействие интеграции инновационной деятельности и «диффузии» знаний, поддержка совместных исследований на доконкурентной стадии»; «подготовка кадров для инновационной сферы, обучение инновационному менеджменту»17. Такая конкретизация основных направлений Стратегии, выраженной в программах, позволяет образовательным учреждениям высшей школы, во-первых, четко уяснить свои задачи и определить место в формирующейся инновационной инфраструктуре образовательной сферы, а во-вторых, разработать реальные планы участия в инновационной деятельности вузов (что и последовало в дальнейшем).
Особое внимание в Стратегии уделяется анализу социально-экономической ситуации в сфере науки. В целом она оценивается как неблагоприятная. В этой связи отмечается «резкое падение престижа профессии ученого (лишь 9 % жителей России считают ее престижной, тогда как в США – 96 % жителей)»; «невостребованность высокого кадрового потенциала вузовской науки»; недостаточное госбюджетное финансирование научных исследований в вузах (в 2006 году было выделено всего 4 % из госбюджета на финансирование вузовской науки); продолжающаяся «интенсивность «утечки мозгов» из России», где главной причиной для подавляющего большинства (90 %) уехавших… является низкая оплата труда ученых на родине» (так, в знаменитой американской Силиконовой доли-
Общество
не, всемирно известном центре научных разработок, в настоящее время контингент ученых состоит из двухсот тысяч бывших наших соотечественников); «существует недооценка фундаментальной науки как базового компонента национальной инновационной системы»; «разрыв междисциплинарных связей и цикла «фундаментальные исследования – прикладные исследования – промышленное производство»; «сохраняется разрыв между наукой и образованием, как следствие не реализуется синергетический эффект от научно-образовательной деятельности»18.
Этот внушительный перечень отрицательных формулировок необходим не столько для констатации удручающего положения в российской науке или подведения итогов неолиберальных реформ в России на рубеже XX–XXI веков (хотя и такая функциональная нагрузка имеет место), сколь для определения сфер научной деятельности, где необходимы действенные инновационные меры при последовательном и мощном патронаже государственной власти.
Особое место здесь, как видно из текста документа, занимает субъективный фактор, без решения проблем которого положительные изменения в научной и образовательной сферах практически невозможны. Столь честное и нелицеприятное осмысление условий реализации инновационной политики, не затуманенное и не закамуфлированное обычной квазиполитической фразеологией официальных СМИ, с одной стороны, свидетельствует о наметившемся прогрессе общественного сознания России на государственном уровне, а с другой, – оно позволяет определить действенные меры для преодоления трудностей.
В этой связи Стратегия подчеркивает: «Мировой опыт показывает, что поступательное социально-экономическое развитие государства и обеспечение его конкурентоспособности на внешнем рынке (преодоление технологического отставания) обеспечивается прежде всего наличием развитой среды «генерации знаний», основанном на значительном секторе фундаментальных исследований в сочетании с эффективной системой образования, развитой национальной инновационной системой, целостной государственной политикой и нормативным правовым обеспечением в сфере инновационной деятельности»19. Таков генеральный директивный концепт Стратегии в сфере государственной инновационной политики.
Terra Humana
Его логика генерирует парадигмальный код необходимой деятельности. В первую очередь следует интегрировать науку и образование путем «поддержки формирования базовых кафедр ведущих вузов в академических институтах»20, т.е. радикально изменить существующую инфраструктуру российской науки путем интеграции в ней образовательного компонента (что, собственно не столь вводит заново, сколь реанимирует сложившийся еще в XVIII веке естественный союз науки и образования в России). Условия глобализации общества – далеко не простого процесса складывания управляемой системы мирового сотрудничества в различных сферах знаний, производства и обмена – непременно предполагают интеграцию интеллектуальных сфер деятельности, каковыми являются образование и наука. Во-вторых, Стратегия постулирует кардинальные изменения государственной политики в отношении субъективного фактора путем радикального пересмотра госбюджетного и внебюджетного финансирования труда ученых в пользу последних, привлечение молодежи в науку при помощи создания благоприятных для нее условий работы. Такие условия, в частности, предусматривают «развитие инновационных и исследовательских университетов», под которыми «понимаются крупнейшие научные центры в секторе высшего образования, которые осуществляют в качестве равноценных видов деятельности как подготовку специалистов с высшим образованием, …так и выполнение научных исследований и разработок мирового класса»21.
Концепт интеграции науки и образования во взаимодействии с кардинальными положительными изменениями отношения государства к ученым являет собой философскую основу инновационного законотворчества российской власти в этой сфере, конкретизирующего диалектику объективного и субъективного, что в свою очередь знаменует стремление властных структур перейти от неконструктивной метафизики 1990-х г.г., возведенной в ранг социальной догматики, к диалектике, где объективные условия должны быть оптимальными для развития субъективного фактора, форма соответствовать содержанию (в противоположность симулякризации эпохи постмодерна), а теория верифицироваться практикой. Лейтмотивом требований Стратегии выступает диалектическая триада «фундаментальные научные исследования – образовательная деятельность – практическое внедрение знаний в хозяйственный оборот». Отсюда следует, что понимание инноваций этим директивным государственным документом отнюдь не сводится к их истолкованию как достижений науки, превращенных в товар с целью получить прибыль и уничтожить конкурента. Напротив, понятие «инновации» наполняется здесь национальным патриотическим содержанием, имманентный пафос которого и главная цель состоит в преодолении пореформенной хозяйственной, идеологической и ментальной разрухи, создании жизнеспособного социума, субстанциируемого наукоемким производством, гарантирующим России достойное место в глобализированном мире.
Все это определяет несомненную ценность для российского общества «Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года» как важнейшего документа Правительства Российской Федерации в его инновационной политике. Вместе с тем этот документ, несмотря на его очевидные достоинства, не имеет силы закона, следовательно формально он не является обязательным к исполнению для субъектов образования и науки. Но этот очевидный факт, тем не менее, не смущает работников образования, в первую очередь Минобрнауки, которые конкретизируют инновационную стратегию в определенных действиях. Однако прежде, чем говорить о них, остановимся на вопросе о целях российского образования, ибо целеполагание определяет успех или неуспех всякой парадигмы.
Общество
Согласно мнению министра образования и науки А.А. Фурсенко, которое он высказал в одном из своих выступлений по телевидению, «задача высшей школы состоит в обучении трем вещам: иностранным языкам (двум – трем), владению компьютером на значительно более высоком уровне, чем у обычного пользователя, и главное – умению ориентироваться в социально-культурной среде. Последнее абсолютно необходимо специалисту при продолжающемся теперь всю его жизнь уточнении рода за-нятий»22. Вероятно не только работники сферы образования, но и многие граждане России, занятые в других отраслях, не согласятся со столь редуцированной трактовкой задачи отечественной высшей школы, хотя бы и сформулированной министром образования и науки. Как бы то ни было, но это один из существующих ныне вариантов общественного мнения о целях высшей школы, который имеет своих сторонников.
Terra Humana
Иной взгляд выражает один из авторов еженедельника, выпускаемого правительством Санкт-Петербурга. Свой анализ ситуации, сложившейся в российском высшем образовании, он заканчивает словами солидарности с действиями российского правительства, согласно которым «большинство российских вузов обязаны в ближайшее время перейти на предоставление образовательных услуг по двухуровневой системе, принятой в Европе и США: по системе «бакалавр-магистр»23. Автора не смущает, что переаттестация вузов в соответствие с требованиями западной модели приведет к потере многими из них лицензий на образовательную деятельность: «зато государство решительно взяло курс на материальную поддержку крупнейших университетов, пытаясь создать из них научно-образовательные и инновационные комплексы мирового уровня…Европеизация высшего образования – один из важнейших шагов европейского выбора России». Нам предлагают еще один вариант официального взгляда на цели высшей российской школы. В отличие от первого варианта, ставящего перед ней не креативную, а сервильную задачу, этот модус выглядит более привлекательным: «рецепт оздоровления» высшей школы он находит в ее вестернизации путем снятия кальки с западноевропейских и американских образцов и перевода ее на отечественную почву. Неизбежное сокращение и упрощение структуры образовательного пространства в ходе такого «реформирования» признается благом, которое обеспечит «образовательный прорыв» (12, с. 5). Стоит обратить внимание, что для мыслителей официальных кругов России, ищущих выхода из кризисной ситуации последних десятилетий, понятие «прорыв» как средство мощного, эффективного и краткосрочного преодоления колоссальных трудностей кажется вполне приемлемым (вспомним «инновационный прорыв» – «генетический собрат» образовательного). Такой подход сложился в результате либо недооценки сложности социокультурных условий, либо неверного представления о вероятных векторах эволюции (инволюции) России, о ее ближайшем и отдаленном будущем. Неуспехи в «вестернизации» социокультурного бытия страны в 90-е гг. XX в., видимо, не научили сторонников этого подхода ничему, коль скоро они по-прежнему усматривают панацею от «болез- ней» отечественной высшей школы в механической пересадке западных шаблонов на образовательное пространство России. Кстати, инновации рассматриваются здесь как элемент «научно-образовательных и инновационных комплексов мирового уровня» на базе крупнейших университетов – этаких островков сайентифицированной цивилизации в безбрежном океане «депрессивной глубинки»24. Квазикреативность такого подхода вполне очевидна.
Механизм реализации национального проекта «Образование» в 2007 году в части инноваций на уровне высшей школы хорошо иллюстрируют ответы на вопросы Интернет-пресс-конференции руководителя Федерального агентства по образования Г.А. Балыхина. Согласно его компетентному мнению, приоритетной в данном проекте стала государственная финансовая поддержка вузов, реализующих инновационные проекты на конкурсной основе. Из 200 вузов – участников конкурса в 2006 г. было отобрано 17, ставших победителями, в числе которых оказались такие, как МГУ и МВТУ25. Руководитель Федерального агентства отметил, что конкурс вузовских инновационных проектов, инициированный значительной финансовой поддержкой государства в отношении вузов-победителей, будет продолжен и в 2007 г., и в последующие годы.
Сама по себе идея инновационной политики, реализующейся в поддержке вузов-победителей конкурса, прекрасна: ведь кого и награждать, как не победителей. Но вместе с тем она составляет впечатление некой фрагментарности: лучшим вузам – все, а как же другие? Некоторые не оказались в числе избранных не потому, что не могут, а из-за того, что условия российской действительности достаточно тяжелы для развития, а нередко для начала инновационной деятельности, что называется, «с нуля». Может быть, стоит подумать о том, чтобы хотя и понемногу, но продвигаться вперед «всем миром»? Иными словами, финансировать создание инновационной системы по всему образовательному пространству России. Для этого, вероятно, необходима дальнейшая работа над совершенствованием законодательства в этой области, что признается, в общем-то, всеми специалистами, размышляющими над проблемами образования и инноваций.
В этой связи депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям профессор Ю.П. Савельев видит основное препятствие модернизации (в том числе и в инновационной деятельности) в следующем: «По сути дела все поправки к законам [в сфере образования – В.Е.], и в том числе касающимся автономных образовательных учреждений, были направлены на тотальную коммерциализацию учебного процесса и превращение системы образования из основной отрасли, которой занимается государство, в сферу услуг.
Таким образом, образование в нашей стране превратилось из объекта в субъект. Но в современном мире ни одна страна не шла и не идет по этому пути»26.
Общество
Итак, одним из реальных результатов осуществляющейся в России модернизации высшей школы стала ее субъективизация, что позволило заложить в основу образовательной системы концепт «тотальной коммерциализации», т.е. оплаты образовательных услуг. Высшее образование как продаваемая услуга – вот реальное содержание модернизации, повторяющееся во всех государственных документах последних лет о науке и образовании. Это содержание вполне соответствует одному из современных пониманий инноваций как новых товаров и технологий, приносящих прибыль. Таким товаром, по мнению определенных кругов российского истеблишмента, должно стать высшее образование. Надо сказать, что эта тенденция достаточно заметна в современном образовательном пространстве России. Но к чему она ведет? Обратимся к фактам. Согласно статистическим данным, опубликованным в санкт-петербургской газете «Час пик», «В России насчитывается 2 млн. неграмотных подростков (к сожалению, число неграмотных детей в нашей стране, по официальной статистике Министерства образования, за 2 последних года практики не сократилось), 6 млн. несовершеннолетних детей находятся в социально неблагоприятных условиях.
В общемировых рейтингах по уровню образования (данные ООН) мы теперь делим 120-е место с Камеруном и Бангладеш»27.
Казалось бы, эти данные не относятся к проблематике высшей школы, но это не так: два миллиона подростков, потенциально будущих студентов, исключены из числа последних по причине своей безграмотности. Шесть миллионов несовершеннолетних детей, растущих в неблагоприятных социальных условиях с большой долей вероятности также будут безграмотными. Следовательно, и без того негативная тенденция, отмеченная в вышеуказанной публикации, – тенденция к стабилизации неграмотности молодежи на уровне 2-х миллионов, вскоре имеет перспективу к ухудшению: вместо двух миллионов мы получим уже восемь – за счет 6 млн. несовершеннолетних, находящихся в тяжелых социальных условиях и конечно уже сейчас не имеющих возможности стать в будущем учащимися высшей школы.
Итак, контингент потенциальных студентов тает на глазах, тогда как уровень одичания населения (причем одичания с юных лет неуклонно) повышается. О каком же образовательном и тем более инновационном «прорыве» можно здесь говорить? Вероятно, в такой ситуации нужны действительно радикальные, (но не сиюминутные, кратковременные «прорывные»), однако долговременные, всесторонне продуманные и главное, – регулярно актуализированные меры спасения не только образования (которое на фоне полемики о модернизации и инновациях «возросло» аж до уровня Камеруна и Бангладеш), но и подрастающего поколения россиян.
Terra Humana
В качестве начальной меры Ю.П. Савельев предлагает внести в основные законы в области образования Российской Федерации ряд поправок, главным смыслом которых является «переход в нашей стране на систему тотального бесплатного и государственного высшего образования с получением первой ступени высшего образования – бакалавр». Необходимость такой меры обоснована тем, что «XXI век – это век инновацион- ных технологических революций и без системы знаний нет ни науки, ни инновационного технологического развития»28. Следовательно страна, население которой не получило тотального высшего образования, обречена стать сырьевым придатком ведущих цивилизованных держав, если у нее есть полезные ископаемые, а у России они, как известно, имеются в больших количествах. Новая образовательная парадигма, по мнению Ю.П. Савельева, должна сохранить достижения советской школы, которые в свое время позволяли СССР входить «в 1-ю десятку самых образованных стран мира»29.
Таким образом, логика концепции тотального высшего образования, предполагающая творческую интеграцию инноваций и лучших достижений советской школы, закрепленная в российском законодательстве, должна полагаться в основу новой образовательной парадигмы, где инноватика займет вполне естественное место субстанции образовательного пространства, детерминирующей эволюционное поступательное изменение социокультурного бытия России.
С такой точкой зрения, пожалуй, можно согласиться, поскольку она переориентирует общественное сознание от стратегии «прорывов», на естественный диалектический путь развития, где инновации являются не ведомственной заботой, не игрой слов и не уделом избранных, но основанием, фундаментом здания общественного бытия.
Таким образом, в аспекте целеполагания проблема модернизации отечественного образования, где лейтмотивом сегодня является инновационная политика правительства, может решаться тремя проанализированными нами выше способами: редуцированием содержания высшего образования и приданием ему сервильного характера; калькированием в российском образовательном пространстве моделей школы Западной Европы и США, т.е. вестернизацией отечественного образования, и, наконец, тотализацией высшего образования, субстанциированной инновациями. Россия находится сейчас на распутьи: какой из предложенных образовательных маршрутов она выберет, таким и окажется ее будущее.
Между тем неопределенность в целеполагании образовательной и инновационной политики, отсутствие в стране подлинного рынка и заинтересованности предпринимателей в инновациях, отсутствие закона об инновациях и инновационной деятельности – эти и другие причины на деле привели к тому, что несмотря на существующие государственные разработки, на стремление правительства проводить активную инновационную политику, на самом деле в последние годы «очень низкой оставалась инновационная активность»30 – таково мнение одного из ведущих экспертов Института экономики РАН, доктора экономических наук Ю. Година. Удивляться здесь нечему: социально-экономические условия современной России с ее несовершенным законодательством отнюдь не способствуют инновационному преобразованию.
Общество
Но все-таки ситуация в интересующей нас сфере образования не столь безнадежна: вузы ведут поиск в области инноваций на основе разработан- ных Правительством «Критериев отбора инновационных вузов» в рамках программы «Приоритетные национальные проекты», где предусмотрены блоки «Общие итоги деятельности вузов в 2000–2005 г.г.», «Управление вузом», «Образовательные программы», «Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и инновационная деятельность», «Международная де-ятельность»31. Вводная часть Критериев содержит следующее уточнение: «Программа финансирования высших учебных заведений направлена на кадровое обеспечение инновационного развития предприятий, отраслей и регионов, задачи повышения качества естественно-научного и инженерного образования, обеспечение его соответствия современным запросам научных исследований.
Отбор проводится среди высших учебных заведений в области естественно-научного и инженерно-технического образования, медицины и сельскохозяйственных наук как среди наиболее ресурсоемких»32.
Таким образом, уже сам подход к инновационному конкурсу ограничивал участие в нем всех вузов Российской Федерации, поскольку критерии отбора распространялись лишь на высшие учебные заведения «естественно-научного и инженерного» образования, практически исключая гуманитарные и педагогические вузы. Поэтому из 17 победителей конкурса в 2006 г. 11 относились как раз к обозначенной в документе сфере деятельности, а оставшиеся 6 – были крупнейшими университетами с развитой политехнической и естественнонаучной инфраструктурой (МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ и др.). Эта диспропорция была вовремя замечена и исправлена, в результате чего на следующем этапе конкурса, в 2007 г. стало возможным участие в нем гуманитарных и педагогических вузов.
Таким образом, инновационная политика правительства РФ – это совершенно новая, во многом непривычная властным структурам России сфера управленческой деятельности, требующая от них не только компетентности в политическом, экономическом и социокультурном менеджменте, но глубокого и ясного знания природы, целей и механизмов инноваций. Как представляется, административные органы страны, да и российское общество в целом, прошли во 2-й половине 90-х гг. XX – начале XXI вв. сложный и нелегкий путь в осмыслении этого явления, сущностной особенностью которого стала адаптация инноваций в общественном сознании России, трансформирующая их фаустианскую суть в креативный фактор современного синергетического общества, определяющая специфику феномена применительно к реалиям изменяющейся социальной действительности.
Terra Humana
Этап осмысления с неизбежностью предполагает плюрализм в понимании сущности и целей инноваций как в экономике, так и в образовании, что, собственно говоря, закономерно на данной стадии развития процесса и способствует в конечном итоге достижению истины: выработке инновационной политики, адекватной изменяющимся социальным условиям. В этой связи можно отметить определенные достижения как в процессе и итогах подготовки программных директивных документов правительс- тва, призванных определять инновационную политику в сфере образования, так и в ответной реакции субъектов высшей школы – разработке ими научно обоснованных инновационных программ.
Наше общество только лишь стартовало на маршруте инновационной деятельности, конкретика которого во многом остается неясной. Успех здесь может быть обеспечен лишь с условием осознания российским социумом своих политических, экономических и культурных целей, что предполагает его ремодернизацию, а фактически подлинную модернизацию от массового общества к социальному государству, что зафиксировано в конституции РФ: «Статья 7.
Таким образом, не только успех, но и сама возможность проведения государством инновационной политики, а социумом – эффективной инновационной деятельности, детерминирована развитием России от массового общества потребления к социальному государству, которое призвано, как указывает Конституция РФ, обеспечить «достойную жизнь и свободное развитие человека», т.е. каждого гражданина нашей страны. Иначе какие бы то ни было инновации просто бессмысленны, либо (в худшем случае) их возможное «инфернальное» наполнение усилит тенденции эксплуатации человека человеком. Все это в полной мере относится к проведению инновационной политики в сфере российского образования.
-
1 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями на 23 декабря 2003 года). // http://www.novostroy.ru/1aw/direct.php .
-
2 Там же. – С. 10.
-
3 О реализации национального проекта «Образование» в 2007 году // Санкт-Петербургский вестник высшей школы. Январь-февраль 2007. – С. 2.
-
4 Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы // http://www.novostroy.ru/1aw/direct.php .
Общество
-
5 Там же. – С. 1.
-
6 Там же. – С. 2.
-
7 Там же. – С. 3.
90 8 Там же. – С. 1.
-
9 Там же. – С. 3.
-
10 Айвазов А. Не «рента»бельное хозяйство // Литературная газета. – 18–24 апреля 2007. – № 16. – С. 4.
-
11 Там же.
-
12 Грачев И. Хорошо забытое новое? // Литературная газета. – 8–14 августа 2007. – № 32. – С. 13.
-
13 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 годы // http://www.nordinform.ru/index.php?st=71 .
-
14 Там же. – С. 5.
-
15 Там же. – С. 1–2.
-
16 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. – М., 2006 // http://www.nordinform.ru/index.php?st=71 .
-
17 Там же. – С. 6–7.
-
18 Там же. – С. 9–10.
-
19 Там же. – С. 10–11.
-
20 Там же. – С. 33.
-
21 Там же.
-
22 Кнаббе Г.С. Нужен ли менеджеру санскрит? // Литературная газета. – 6–12 июня 2007. – № 24. – С. 13.
-
23 Создание инновационной системы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий в социальной сфере. Инновационная образовательная программа на 2007–2008 гг. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. – С. 48.
-
24 Там же.
-
25 Островский В. Требуется «образовательный прорыв» / Петербургский дневник. Еженедельное издание Правительства Санкт-Петербурга. – 26 марта 2007. – № 11. – С. 5.
-
26 Все граждане России в XXI веке должны иметь высшее образование // Санкт-Петербургский вестник высшей школы. – Январь-февраль 2007. – С. 3.
-
27 Час пик. – 2–8 мая 2007. – № 17. – С. 8.
-
28 Все граждане России в XXI веке должны иметь высшее образование // Санкт-Петербургский вестник высшей школы. – Январь-февраль 2007. – С. 3.
-
29 Час пик. – 2–8 мая 2007. – № 17. – С. 8.
-
30 Годин Ю. Медленно и печально: трехлетний бюджет как идеология пессимизма // Литературная газета. – 25–31 июля 2007. – № 30. – С. 4.
-
31 Критерии отбора инновационных вузов (рукопись). – С. 1–3.
-
32 Там же. – С. 1.
-
33 Грачев И. Хорошо забытое новое? // Литературная газета. – 8–14 августа 2007. – № 2. – С. 4.
Terra Humana
Список литературы Инновационная политика правительства российской федерации в сфере высшего образования: аналитический обзор правительственных документов
- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» (с изменениями на 23 декабря 2003 года).//http://www.novostroy.ru/1aw/direct.php
- О реализации национального проекта «Образование» в 2007 году//Санкт-Петербургский вестник высшей школы. Январь-февраль 2007.
- Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы//http://www.novostroy.ru/1aw/direct.php
- Айвазов А. Не «рента»бельное хозяйство//Литературная газета. -18-24 апреля 2007. -№ 16.
- Грачев И. Хорошо забытое новое?//Литературная газета. -8-14 августа 2007. -№ 32.
- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы//http://www.nordinform.ru/index.php?st=71
- Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. -М., 2006//http://www.nordinform.ru/index.php?st=71
- Кнаббе Г.С. Нужен ли менеджеру санскрит?//Литературная газета. -6-12 июня 2007. -№ 24.
- Создание инновационной системы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий в социальной сфере. Инновационная образовательная программа на 2007-2008 гг. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007.
- Островский В. Требуется «образовательный прорыв»/Петербургский дневник. Еженедельное издание Правительства Санкт-Петербурга. -26 марта 2007. -№ 11.
- Все граждане России в XXI веке должны иметь высшее образование//Санкт-Петербургский вестник высшей школы. -Январь-февраль 2007.
- Час пик. -2-8 мая 2007. -№ 17.
- Все граждане России в XXI веке должны иметь высшее образование//Санкт-Петербургский вестник высшей школы. -Январь-февраль 2007.
- Годин Ю. Медленно и печально: трехлетний бюджет как идеология пессимизма//Литературная газета. -25-31 июля 2007. -№ 30.
- Критерии отбора инновационных вузов (рукопись).
- Все граждане России в XXI веке должны иметь высшее образование//Санкт-Петербургский вестник высшей школы. -Январь-февраль 2007.
- Час пик. -2-8 мая 2007. -№ 17.
- Все граждане России в XXI веке должны иметь высшее образование//Санкт-Петербургский вестник высшей школы. -Январь-февраль 2007.
- Годин Ю. Медленно и печально: трехлетний бюджет как идеология пессимизма//Литературная газета. -25-31 июля 2007. -№ 30.
- Критерии отбора инновационных вузов (рукопись).