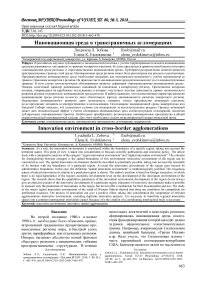Инновационная среда в трансграничных агломерациях
Автор: Зобова Л.Л., Евдокимова Е.К.
Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet
Рубрика: Экономика и управление
Статья в выпуске: 3 (77), 2018 года.
Бесплатный доступ
В российских научных публикациях и экономической политике с учетом территориального аспекта инновационная среда рассматривается, как правило, в границах конкретного региона. В статье предлагается сравнительный анализ категории «инновационная среда региона» и «пространственная инновационная среда». Критерием разграничения понятий являются пространственные границы этой среды. Инновационная среда региона может быть рассмотрена как реально существующая. Пространственную инновационную среду необходимо описывать как потенциально возможную с учетом несовпадения ее границ с границами конкретного региона. На практике часто инновационная среда региона выходит за его административные границы. В этом случае методологически обоснованным является дефиниция «пространственная инновационная среда». Показан экзогенный характер радикальных инноваций по отношению к конкретному региону. Представлена авторская позиция, опирающаяся на зарубежные исследования, в которых отсутствует жесткая зависимость уровня экономического развития региона от развитости инновационной среды региона...
Инновационная среда, инновационное пространство, агломерация, макрорегион
Короткий адрес: https://sciup.org/140238676
IDR: 140238676 | DOI: 10.20914/2310-1202-2018-3-463-470
Текст научной статьи Инновационная среда в трансграничных агломерациях
Во второй половине 1980-x и начале 1990-x гг. необходимо было объяснить кризис, затронувший традиционно процветающие промышленные регионы мира, и быстрый успех других периферийных или отдаленных регионов. Интерес вызывает абсолютно новый феномен «быстрых» регионов с динамичными, гибкими пространственными структурами. В течение
нескольких десятилетий в некоторых регионах сформировалась инновационная среда, последствия функционирования которой выходят далеко за рамки национальных и континентальных границ. Например, американская Силиконовая долина, индийский Бангалор, «Третья Италия» и др. Надо учесть, что Силиконовая долина – часть крупнейшей агломерации-конурбации США, Бангалор является пятой по численности
агломерацией в Индии. При этом Силиконовая долина и Бангалор являются ареалами инноваций, но в районе так называемой «Третьей Италии» сосредоточено большое количество малых и средних фирм, специализирующихся в ремесленных отраслях.
Продолжается дискуссия о соотношении роли экзогенных и эндогенных факторов для технологических инноваций регионов. Диффузия инноваций должна быть рассмотрена с учетом пространственно-временного аспекта, поскольку поведенческие реакции меняются с течением времени и в разных местах. Одновременно возникает необходимость в инструментах измерения уровня развития инновационной среды региона, для проведения адекватной инновационной политики. Набор существующих показателей, характеризующий степень развитости инновационной среды региона, не всегда дает объективную характеристику.
Для пространственного развития любой страны закономерным является неравномерное развитие регионов, в том числе и степень развитости региональной инновационной среды. Исследование должно дать ответ на вопрос о возможной роли макрорегиона в производстве инноваций.
Цель работы вытекает из логики исследования – от устоявшегося в науке понятия инновационной среды и различного понимания категории инновационного пространства к уточнению понятия «пространственная инновационная среда». В большинстве публикаций дается характеристика качества инновационного пространства, при этом понятие «пространство» не формулируется. По сути, речь идет не о пространстве, а о конкретной территории. Особенность работы состоит в анализе пространственной инновационной среды, не совпадающей с границами региона. Полученные выводы могут помочь местным государственным органам в выборе стратегии инновационного развития данного региона.
Пространственная инновационная среда
Общепринято, что инновационная среда является сочетанием внутренней и внешней среды участника инновационного процесса. В теории в качестве компонентов внешней среды выделяют социальную, технологическую, экономическую и политическую сферы [1]. При этом отдельно не выделяется пространственный компонент. Между тем за последние двадцать лет территориальные подходы сыграли важную роль в инновациях и экономике знаний. В середине 80-x годов в зарубежных исследованиях была сформулирована необходимость анализа инновационной среды, влияющей на функционирование и развитие регионов. В этот период была сформулирована концепция «инновационной мили». Инновационная среда состоит из субъектов и элементов, которые взаимодействуют в производстве, распространении и использовании экономически полезных знаний в определенном пространстве. Таким образом, существует настоятельная потребность ввода пространственной составляющей в концепцию инновационных сред.
Понятие инновационной среды в отечественном научном сообществе рассматривается с различных позиций. С точки зрения институциональной теории «инновационная среда» является совокупностью экономически целесообразно организованного пространства жизнедеятельности [2]. Таким образом в неявном виде отождествляется среда и пространство. Во многих исследованиях инновационная среда региона авторами определяется как сложившееся взаимодействие внешнего окружения региона и региональной инновационной системы [3]. Из данного определения следует, что инновационная среда в регионе уже существует, и в неявном виде подразумевается несовпадение границ региона и его инновационной среды.
Категория инновационной среды объективно предполагает соотнесение с категорией инновационного пространства. Подчеркнем, что речь идет не о территории, а именно о пространстве. В российских публикациях дается широкое определение инновационного пространства, например, как формы организации объектов инновационной деятельности, направленной на инновационное преобразование действительности [4].
Пространство, понимаемое как организованная среда, созданная в целях разграничения деятельности субъектов, дает основание для ввода категории «пространственная инновационная среда» [5]. Предлагаемая достаточно абстрактная дефиниция требует соотнесения с понятием «инновационная среда региона». Критерием разграничения понятий являются пространственные границы этой среды. Инновационная среда региона может быть рассмотрена как реально существующая. Пространственную инновационную среду необходимо описывать как потенциально возможную с учетом несовпадения ее границ с границами конкретного региона.
В зарубежных публикациях можно выделить два противоположных подхода: роль регионов в генерации инноваций возрастает либо современные информационные компьютерные технологии нивелируют значение расстояния. Можно ли согласиться с этим тезисом? Однозначного ответа нет – никто не отменял роль личного взаимодействия в генерации инноваций.
Понимание особенностей пространства, в котором осуществляются инновации, является ключом к укреплению регионального инновационного потенциала, особенно в современных мегарегионах, где пространство нелегко отделяется от внешних воздействий. В зарубежных публикациях исследована взаимосвязь пространственных факторов и инноваций с анализом пространственной близости, инновационных сетей и региональных инновационных систем. Однозначного вывода не получено. Была изучена взаимосвязь инноваций и близости с использованием набора данных НИОКР и человеческого капитала в 276 регионах ЕС. Согласно результатам географическая близость важна, но в меньшей мере, чем технологическая и когнитивная. [6]. На практике инновационная среда формируется путем смешения организационной и географической близости в городских системах. В ОЭСР были рассмотрены методы преобразования пространств в региональные кластеры инноваций, в то же время ряд стран реализовал эти идеи. Нидерланды и Германия разработали региональную инновационную систему в качестве центрального элемента своих долгосрочных региональных программ территориального планирования. В Японии и Корее проводится политика, поощряющая региональные инновационные системы. Но в настоящее время корейская инновационная политика фокусируется на пространственных единицах, в то время как в Японии применяют инновационную политику по всей стране. Корея предпочитает отбор и концентрацию, в то время как Япония выбирает децентрализацию и распределение. В институционально и экономически интегрированной Европе роль регионов изменяется. В частности, городские агломерации являются лучшим драйвером инноваций, чем высокая отраслевая специализация регионов.
В США генерирование инноваций обычно происходит в самодостаточных географических ячейках (например, университетских городах). Таким образом, в каждом конкретном случае применяются свои региональные инновационные стратегии.
Адекватно оценить уровень развития инновационной среды региона возможно с учетом деления инноваций на радикальные инновации и так называемые технологические траектории. При этом роль территории разная для разных видов инноваций. Зарубежные исследователи полагают, что происхождение радикальных инноваций экзогенно к системе. Для новой траектории инноваций географическая близость будет способствовать генерации знаний [7].
Подчеркнем, что необходимо различать географическую близость как реальную и потенциальную, и как желательную и нежелательную. Географическая близость из положительного фактора способна превратиться в фактор отрицательный. Нередки случаи, когда соседи практически полностью игнорируют друг друга, тем более что технологии коммуникации предоставляют возможность быть одновременно в двух местах и, следовательно, быть «близко» от кого-либо географически удаленного.
Инструменты измерения инновационной среды региона
В зарубежных публикациях продолжается дискуссия о возможности определения конкретных показателей пространственного инновационного развития. Дискуссия выявила два противоположных подхода. Первый направлен на обоснование объективности критериев развития региональной экономики, основанной на знаниях, второй – на развитие новых концепций, которые могли бы привлечь внимание политиков. Существующие показатели дают возможность измерить только производство инноваций в регионе, но не дают возможность предложить механизм их распространения и использования [8].
Для оценки уровня инновационного развития конкретного пространства следует учитывать как статические (количество университетов, количество фирм, размер и возраст предприятия, человеческий капитал и так далее), так и динамические показатели (количество кооперационных связей между хозяйствующими субъектами).
Трудность поставленной задачи предопределена тем, что необходимо определить факторы, влияющие на формирование отношений между знанием и экономикой. При этом невозможно точно измерить существующее знание на входе. За основу часто берут методологию, разработанную на международном уровне (Всемирный банк, ОЭСР и др.). Для измерения инновационной системы предлагается использовать: объем прямых иностранных инвестиций, внутренние прямые инвестиции, общее количество научных работников, в том числе сотрудников НИОКР, расходы на научные исследования и развитие, количество сотрудников, занятых фундаментальными исследованиями, сотрудничество между исследовательскими институтами и бизнесом, количество научно-технических журналов, патенты, экспорт в сфере высоких технологий, количество инновационных предприятий (которые производят только инновационный продукт), развитость Интернета.
Можно было ожидать сильную корреляцию между инвестициями в НИОКР, знания и процесс обучения, с одной стороны, и увеличением производительности труда, с другой. Тем не менее, эмпирические данные показывают расхождения между знаниями на входе и экономическими показателями в различных географических единицах.
Иначе говоря, следует признать, что распределение роста производительности и экономического роста в регионах происходит крайне неравномерно. Экономическое неравенство пространств, выраженное в доходах ВВП на душу населения, занятости и безработице, является постоянным во времени. Причина может быть глубоко укоренена в инерционности субъектов региональной системы. Поскольку инновации – это процесс, который происходит на пересечении социального и физического пространства, неравномерность регионального распределения эффективности инновационных сред может быть связана и с наличием культурно-познавательных условий, и с традициями предпринимательской ориентации в соответствующем регионе, наличием открытости и творчества, бизнес-отношениями и развитостью местных институциональных систем [9].
Пространственная инновационная среда в агломерациях юга Западной Сибири
В Ассоциацию инновационных регионов России включено всего 14 субъектов. В аналитическом докладе «Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации» дана оценка инновационного развития российских регионов [10]. Расчет рейтинга инновационного развития ведется на основе 29 индикаторов. В 2016 г. введен новый блок индикаторов – «Инновационная активность региона». Лидерами рейтинга ожидаемо являются Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. С точки зрения анализа инновационной активности интерес представляют четыре агломерации юга Западной Сибири (Алтайская, Кузбасская, Новосибирская, Томская), потенциально образующие макрорегион с устоявшимся межрегиональным разделением труда. В группу сильных инноваторов вошли 11 субъектов РФ, в том числе Томская и Новосибирская область. Впервые в эту группу вошел Красноярский край. Алтайский край вошел в группу среднесильных инноваторов, продемонстрировав положительную динамику в инновационном развитии. Кемеровская область входит в группу среднеслабых инноваторов. В число лидеров по уровню развития научных исследований и разработок входят Томская и Новосибирская области (таблица 1).
В РФ центры инноваций простран ственно распределены крайне неравномерно.
Таблица 1.
Рейтинг инновационной активности агломераций юга Западной Сибири 2016 г. [10]
Table 1.
Rating of innovation activity agglomeration south of West Siberia 2016year [10]
|
Место в рейтинге инновационного развития субъектов РФ Place in the ranking of innovative development of subjects of the Russian Federation |
|||||
|
Агломерации Agglomeration |
Региональный инновационный индекс Regional innovation index |
Индекс научнотехнического потенциала Index of the scientific and technical capacity |
Индекс инновационной деятельности Innovation index |
Индекс социальноэкономических условий инновационной деятельности Index of socio-economic conditions of innovation |
Индекс качества инновационной политики Index of the quality of innovation policy |
|
Барнаульская Barnaul |
27 |
54 |
10 |
71 |
21 |
|
Кемеровская Kemerovo |
40 |
34 |
64 |
52 |
23 |
|
Новосибирская Novosibirsk |
11 |
10 |
20 |
22 |
12 |
|
Томская Tomsk |
9 |
6 |
12 |
11 |
17 |
Относительно равномерное развитие всех составляющих общего рейтинга характерно только для Томской агломерации. Значительный разрыв в показателях среди агломераций объясняется, прежде всего, различиями в стартовых условиях, что позволит и в дальнейшем привлекать к себе фирмы и развиваться за счет регионов с менее благоприятными стартовыми условиями.
Надо полагать, что инновационный разрыв соседних агломераций в ближайшей перспективе сохранится. Обоснованным является вывод о сформированности региональных инновационных пространств в Новосибирской и Томской агломерациях, но и они не обеспечивают адекватных макроэкономических показателей [11].
В расчете индексов развития инновационной среды регионов вес каждого индекса различен. Хорошим маркером инновационной деятельности может служить количество выданных патентов на изобретения, а не количество опубликованных статей (таблица 2).
Таблица 2.
Показатели результативности инновационной деятельности агломераций, 2016 г. [10,12,13]
Наиболее сильные стороны инновационной деятельности Новосибирской и Томской агломераций в результативности научных исследований, в частности, в количестве выданных патентов на изобретения (таблица 3).
Table 2.
Performance indicators of innovation in Agglomeration 2016 year [10,12,13]
|
Агломерация Agglomeration |
ВРП на душу населения (тыс. руб.) GRP per capita (thousand rubles) |
Количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых в РИНЦ, в расчете на 10 исследователей The number of articles published in journals indexed in Russian science citation index, per 10 researchers |
Количество патентов на изобретения Number of patents for inventions |
Результативность научных исследований и разработок (ранг в рейтинге) Effectiveness scientific research and development (rank in ranking) |
Отношение объема поступлений от экспорта технологий к ВРП (в расчете на 1 тыс. руб. ВРП) (ранг в рейтинге) The ratio of revenues from technology exports to GRP (per 1 thousand. RUB GRP) (rank in ranking) |
|
Барнаульская Barnaul |
210,4 |
32 |
130 |
71 |
52 |
|
Кузбасская Kemerovo |
316,3 |
12 |
79 |
45 |
47 |
|
Новосибирская Novosibirsk |
391,4 |
58 |
202 |
14 |
15 |
|
Томская Tomsk |
451,8 |
43 |
126 |
13 |
36 |
Таблица 3.
Показатели результативности патентной деятельности агломераций (1997–2014) [14]
Table 3.
Performance indicators of patent activity Agglomeration (1997–2014) [14]
|
Показатели | Indicators |
Агломерация | Agglomeration |
Уровень | Level |
|
Результативность патентной динамики The impact of patent Dynamics |
Барнаульская, Кемеровская, Новосибирская, Томская Barnaul, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk |
Высокий | High |
|
Результативность патентной динамики по внедрению в производство The impact of patent application of Dynamics |
Барнаульская, Кемеровская, Новосибирская, Томская Barnaul, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk |
Низкий | low |
|
Уровень использования изобретательной активности Level of inventive activity |
Барнаульская, Томская Barnaul, Tomsk |
Низкий | low |
|
Кемеровская, Новосибирская Kemerovo, Novosibirsk |
Умеренный | Moderate |
Таким образом, все четыре агломерации показывают высокий уровень результативность патентной динамики и низкий и умеренный уровень использования патентов [14]. Налицо недополученный эффект от патентной деятельности во всех агломерациях.
Какие бы меры не предпринимались на уровне региональной политики, преодолеть имеющийся инновационный разрыв соседних агломераций не реально.
Неравномерность развития инновационной среды регионов углубляется и в результате конкуренции за студента, что при отсутствии государственной политики распределения выпускников для РФ чревато еще большим региональным расслоением. Вузы конкретного региона воспринимают экспансию соседних вузов «на свою территорию» со знаком минус. Вместе с тем крупные вузы стремятся расширить пространство своей образовательной деятельности за пределы данного региона. Особенно наглядно проявляется конкуренция Новосибирской, Кемеровской и Томской агломераций по привлечению потенциальных студентов. Практика последнего десятилетия показывает, что произошло сокращение количества студентов во всех названных агломерациях. Однако за это же время количество студентов на 10 тыс. населения в соседних агломерациях изменилось в пользу вузов Новосибирска и Томска (таблица 4).
Таблица 3.
Численность студентов государственных вузов на 10 тыс. человек населения [15]
Table 3.
Number of students of State higher educational institutions on 10 000 population [15]
|
Агломерации Agglomeration |
2005 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|
Барнаульская | Barnaul |
146 |
148 |
223 |
246 |
291 |
|
Кузбасская | Kemerovo |
132 |
134 |
237 |
276 |
309 |
|
Новосибирская | Novosibirsk |
282 |
256 |
486 |
554 |
555 |
|
Томская | Tomsk |
420 |
343 |
674 |
757 |
767 |
Надо полагать, что в ближайшее время тенденция сохранится. При этом географическая близость образовательного пространства регионов важна для обмена знаниями. Известен опыт трансграничных агломераций (cross-border agglomerations), расположенных на территории разных государств. Может возникнуть эффект совокупного регионального обучения, что, в свою очередь, приведет к необходимости создания более сложных систем образования.
Решение проблемы неравномерности инновационного пространственного развития возможно путем формирования межрегиональных инновационных кластеров макрорегионов. Преимуществами географического положения Алтайской и Кузбасской агломераций является соседство с регионами-инноваторами: Новосибирской и Томской агломерациями. Появляется возможность использовать эффект географической близости. В Новосибирской агломерации формируется два кластера: в сфере информационных и телекоммуникационных технологий «СибА-кадемСофт» и биофармацевтический. Томская агломерация представлена кластерами фармацевтики и медицинской техники, информационной технологии и электроники. В Алтайской агломерации формируется биофармацевтический кластер, в Кузбасской – комплексная переработка угля и техногенных отходов [16]. Таким образом, в трех соседних агломерациях создаются кластеры одной направленности: биофармацев-тические и информационной технологии.
Список литературы Инновационная среда в трансграничных агломерациях
- Семенов А.В. Основные факторы и свойства инновационной среды//Российское предпринимательство. 2012. № 18 (240). С. 54-59.
- Вахрушев Д.С. Инновационная среда как значимый фактор формирования инновационной экономики: институциональный подход//Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2015. № 1. С. 5-8
- Кармышев Ю.А., Иванова Н.В. Категории «регион» и «инновационная среда региона»: научные подходы к пониманию сущности и содержания//Социально-экономические явления и процессы. 2015. Т.10. № 7. С. 41-47.
- Воейкова О.Б., Лячин В.И. Категориальное определение инновационного пространства//Вестник СибГАУ. 2015. Т.16. № 4. С. 1014-1021.
- Зобова Л.Л. Территория и пространство: близнецы или двойняшки?//Региональная экономика: теория и практика. 2008. № 33. С. 6-12.
- Perspectives on spatial dynamics: cities, culture and environment//Asia-Pac J Reg Sci. 2017. №1. P. 133-153 10.1007/s41685-017-0037-1 URL: https://slideheaven.com/comparing-a-spatial-structure-of-innovation-network-between-korea-and-japan-thro.html DOI: 10.1007/s41685–017–0037–1
- Crevoisier O., Jeannerat H. The Territorial knowledge dynamics: from the proximity paradigm to multi-location milieus//European Planning Studies. 2009. № 17. P. 1223-1241.
- Bucciarelli E., Giulioni G., Ciommi М., Affortunato F. Assessing local knowledge dynamics: Regional Knowledge Economy Indicators//International Journal of Human and Social Sciences. 2010. Vol. 5. № 11. P.703-708.
- Wineman J., Hwang Y., Kabo F., Owen-Smith J., Davis G. How Space Augments the Social Structures of Innovation//ARCC 2013 Architectural Research Conference hosted by the University of North Carolina at Charlotte. 2013. Р.719. URL: www.arcc-journal.org/index.php/repository/article/
- Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 5/Абдрахманова Г.И., Бахтин П.Д., Гохберг Л.М.; под ред. Л.М. Гохберга; Национальный исследовательский. университет «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2017. 260 с.
- Нуреев Р.М., Симаковский С.А. Сравнительный анализ инновационной активности российских регионов//Теrrа economicus. 2017. Т. 15. № 1. С. 130 -147. 10.18522/2073-6606-2017-15-1-130-147 DOI: 10.18522/2073–6606–2017–15–1–130–147
- Валовый региональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации в 1998-2016 гг. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki
- Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели 2017 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14р/Main.htm
- Амирова Р.И. Оценка инновационной активности в регионах России//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. 2017. № 1 (38). С. 23-29 DOI: 10.15688/jvоlsu3.2017.1.3
- Федеральная служба государственной статистики URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b03_33/
- Об итогах проведения конкурсного отбора программ развития территориальных кластеров на включение в проект Перечня пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, утверждаемый Правительством Российской Федерации URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120619_03
- Баутин В.М., Филатова М.В., Абубакар К., Крис О.Э. Механизм развития интеграционных процессов в регионе//Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2017. Т. 79. № 2. С. 225-230. 10.20914/2310-1202-2017-2-225-230 DOI: 10.20914/2310–1202–2017–2–225–230
- Zobova L.L., Shabashev V.A. The problem of providing food resources in urban agglomerations (the case study of the kuzbass agglomeration)//Foods and Raw Materials. 2016. V. 4. № 1. P. 186-196. 10.21179/2308-4057-2016-1-186-196 DOI: 10.21179/2308–4057–2016–1–186–196