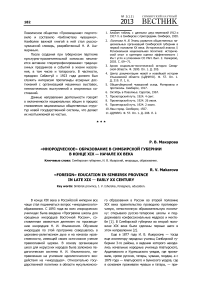«Инородческое» образование в Симбирской губернии в конце XIX - начале XX века
Автор: Макарова Р.В.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Конференции, семинары
Статья в выпуске: 3 (13), 2013 года.
Бесплатный доступ
Симбирская губерния, и. в. ишерский, инородцы, образование
Короткий адрес: https://sciup.org/14113803
IDR: 14113803
Текст статьи «Инородческое» образование в Симбирской губернии в конце XIX - начале XX века
В конце XIX века в Российской империи все чаще стал подниматься вопрос «инородческого» образования. С 1893 года во всех инородческих училищах была введена «Программа школы для крещеных инородцев Восточной России», составленная известным деятелем по просвещению инородцев Н. И. Ильминским. Обучение инородцев по этой программе совершалось в церковно-религиозном духе и на началах нравственности, имеющей своим источником учение православной церкви. В основу организации школ для нерусских народов была заложена педагогическая система Н. И. Ильминского, направленная на усиление идеологического воздействия на «инородцев». Относительно государственной политики в области мусульманско- го образования в России во второй половине XIX века правительство проводило противоречивую, непостоянную образовательную политику: открывало русско-татарские школы и поддерживало конфессиональные медресе и мекте-бе [1]. В Симбирской губернии во второй половине XIX века были сделаны первые шаги в этом направлении [2].
Еще в 1877 году И. В. Ишерскому — тогда еще инспектору народных училищ Симбирской губернии 3-го района, в ведении которого находились начальные народные училища Алатырского, Ардатовского и Курмышского уездов, где проживали, кроме русских, татары, чуваши, мордва, а с 1879 года — Алатырского и Буинского уездов, где в основном проживали чуваши и татары, — при- шлось столкнуться с этой проблемой . На этом он заострил внимание в своей речи, произнесенной на праздновании сорокалетия Симбирской чувашской школы 28 октября 1908 года [3, с. 31—33]. Речь была опубликована в сборнике «На память о сорокалетии Симбирской чувашской школы (28 октября 1868 — 1908 г.)» в 1910 году, составленном преподавателями школы .
Ишерский И. В. вспоминает: «В марте месяце 1877 года мне, в качестве инспектора народных училищ Курмышского уезда, первый раз довелось быть в Раскильдинском, Штанашском, Че-тайском и Пандиковском училищах Курмышского уезда, в которых обучались исключительно чуваши, вплоть до школы не произносившие ни одного русского слова. Преподавателями здесь были русские люди, преподавание велось исключительно на русском языке, так как чувашского языка сами они или совсем не знали, или были в нем очень слабы, — но к своим обязанностям все относились честно, целые дни проводили в школе, самому ведению ежедневных уроков старались придать определенную методичность и возможную осмысленность. И всё-таки результаты от их трудов получались очень ограниченные. Весь запас знаний в чтении, счете и письме ограничивался приобретением лишь механических навыков, которые чрезвычайно мало прибавляли к их умственному развитию, необыкновенно быстро забывались, почему образовательное воздействие школы неизбежно ограничивалось очень узкой и малополезной сферой чисто внешнего влияния, точнее, — одной внешней выправкой учащихся» [3, с. 30—31].
Ишерский, вспоминая о своем заведовании училищами Буинского уезда, где встретил не лучшие успехи во многих чувашско-инородческих училищах (Матакском, Шемуршинском, Но-во-Айбесенском, Тарханском, Чепкас-Никольс-ком, Убеевском), отмечал, что училища были очень слабы [3, с. 31].
Свою речь Иван Владимирович заканчивает заключением, что с большим нетерпением и интересом ждал кандидатов на учительские должности из только что сформировавшейся Симбирской центральной чувашской школы. Анализируя деятельность первых чувашских учителей, поступивших в начальные народные училища Симбирской губернии в 1879 году, И. В. Ишер-ский делает вывод, что эти учителя достигали в своем деле хороших учебно-воспитательных результатов. При этом он отмечает, что их образовательная и специально-педагогическая подготовка постепенно становилась выше, с годами заметно прогрессируя [3, с. 32].
По вопросам инородческого образования И. В. Ишерский переписывался с Н. И. Ильинским. В письме от 2 марта 1879 года И. В. Ишер-ский пишет, «…что переписываться ему не только приятно, но и чрезвычайно полезно в интересах обязанностей, так как этим представляется удобный случай многому научиться по начальному образованию «инородцев», которые в моем районе весьма достаточны. Поэтому я буду очень рад получать от Вас, Николай Иванович, весточки…» [4, л. 45]. В письме Иван Владимирович высказывает свое мнение об обучении «инородцев»: «Между тем мне всегда казалось, а теперь и совершенно уверился, что сближение инородцев с православно-русским народом и цивилизацией вполне успешно может вестись только тогда, когда родное инородцу будет нами уважаемо. А что роднее, дороже для всякого, как не язык? Поэтому обучение в инородческой школе следует, кажется, вести на инородческом языке» [4, л. 45]. В то же время, желая найти учителя, умеющего пользоваться мордовским языком, он утверждает: «Говорю — пользоваться, потому что начальная школа все-таки должна учить не мордовский, чувашский и т. п. теме, а просвещать светом православной религии и истинного знания, естественно приводящих к сближению с господствующим русским народом и языком последнего» [4, л. 45—46 об.].
По первоначальным своим взглядам, когда И. В. Ишерский начал работать инспектором, он больше склонялся к тому, чтобы использовать «инородческий язык» только при обучении «инородцев».
Ишерский И. В. старался в мордовские села назначить учителей, знающих мордовский язык. Так, в Помаевское сельское училище назначен Иван Ягодинский, окончивший курс в Симбирской духовной семинарии и хорошо знающий мордовский язык, также для Берегово-Сыре-севского двухклассного сельского училища Ар-датовского уезда И. В. Ишерский искал учителя, знающего мордовский язык.
В 1886 году начальное инородческое образование в Симбирской губернии распространялось при посредстве 7 училищ в татарских деревнях, подведомственных инспектору татарских, башкирских и киргизских школ; 8 инородческих училищ, находящихся в ведении инспектора чувашских школ Казанского учебного округа, миссионерской инородческой школы и Симбирской чувашской учительской школы [5].
Иван Владимирович совместно с инспекторами этих училищ осуществлял общее руководство инородческими училищами Симбирской губернии: осматривал и проверял училища, участвовал в торжественных мероприятиях по открытию чувашских училищ и домовых церквей при учебных заведениях, ходатайствовал об открытии новых инородческих училищ. Результатом такого сотрудничества стало увеличение количества инородческих училищ. В 1893 году инородческих училищ в губернии было уже 93: мордовских — 42, чувашских — 42, татарских — 7, чувашско-татарских — 1 и эстонских — 1.
Предметы учебного курса в инородческих училищах были те же, что и в чисто русских. Само обучение в чувашских училищах продолжалось четыре года, в мордовских, татарских и чувашско-татарских училищах — три года, в Но-во-Мочалеевском татарском и Смородиновском эстонском продолжительность обучения долго не определялась. Учащиеся в чувашских и мордовских школах распределялись преимущественно на два, а не на три отделения [6, с. 72].
Дети первые два года обучались на их родном языке молитвам, догмам веры, насколько это возможно для детей 8—10-летнего возраста, чтению и письму. Слова молитв на народном языке для них были не пустыми звуками. Совершаемое на чувашском языке богослужение укрепляло их религиозные понятия, вводило их в круг христианского мировоззрения и делало сознательными участниками православно-христианской жизни [7].
Ишерский И. В. выделяет две особенности при организации инородческих училищ: во-первых, в чувашских и мордовских училищах учащиеся делятся на два отделения, в чувашских курс учения продолжался четыре года, в татарских училищах курс был трехлетним; во-вторых, при обучении употреблялся инородческий язык, без обращения к которому трудно было заниматься с учениками, не понимающими по-русски. Ишерский подчеркивает необходимость употребления инородческого языка при обучении, однако язык инородцев является лишь средством при изучении русского языка [6, с. 73].
18 июля 1896 года Департамент народного просвещения запрашивает у директора народных училищ Симбирской губернии сведения о постановке учебно-воспитательного дела в инородческих начальных училищах. И . В. Ишерский собирает эти данные из отчетов инспекторов [8, л. 13].
-
5 сентября 1896 года Иван Владимирович пишет представление в Департамент народного просвещения о постановке учебно-воспитательного дела в инородческих училищах:
-
«1 ) В Симбирской губернии начальных училищ имеется для следующих инородцев: чуваш,
мордвы, татар, и в последние годы появились школы для эстонцев.
-
2) В чувашских школах Буинского и Симбирского уездов, а также в некоторых Курмыш-ского курс обучения продолжается четыре года, а ученики разделяются преимущественно на два отделения вместо обычных трех. Может быть, четыре же года будут обучаться и эстонцы, но продолжительность курса у них пока не определилась, хотя ни в каком случае он не может быть меньше трех лет. Мордва обучается три года, причем в очень многих училищах Ардатов-ского, Алатырского и некоторых других уездов ученики разделяются тоже на два, а не на три отделения, для правильной организации которых по возрасту и развитию учащихся раз в три года не бывает приема и выпуска из училища.
-
3) Более общее, встречающееся в обдуманно организованных инородческих училищах, распределение ежедневных уроков может быть представлено в таком виде [8, л. 13—13 об.]:
а) В училищах с четырехлетним курсом
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
|
|
Закон Божий |
6 |
6 |
4 |
4 |
|
Русский язык |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Чтение по книгам церковной печати |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
Письмо |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Арифметика |
4 |
4 |
5 |
6 |
|
Пение |
||||
|
22 |
22 |
25 |
26 |
б) В училищах с трехлетним курсом
|
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
Закон Божий |
6 |
6 |
4 |
|
Русский язык |
6 |
6 |
6 |
|
Чтение по книгам церковной печати |
2 |
4 |
4 |
|
Письмо |
5 |
5 |
6 |
|
Арифметика |
5 |
5 |
6 |
Татары и эстонцы славянского языка не изучают, и время, отведенное на него в еженедельном распределении, употребляют на чтение книг на их природных языках. Преподаватели этих национальностей в первом учебном году часто уделяют 8 уроков вообще на чтение, распределяя их иногда поровну на занятиях русским и родным языком, иногда уступая занятия в пользу того, успехи в котором оказываются более слабыми.
-
4) Обучение в чувашских школах с четырехлетним курсом по всем учебным предметам в первые два года ведется на чувашском языке, причем из русского ученики практически посте-
- пенно запоминают значения особенно употребляемых отдельных слов и легких выражений [8, л. 13 об.]. Чтение ведется по чувашскому букварю, напечатанному русскими буквами с некоторыми приспособлениями к особенностям чувашской фонетики (подчеркнуто Ишерским. — Р. М.), а в конце первого учебного года, большею же частью в самом начале второго, ученики усваивают русский алфавит и упражняются в чтении отдельных русских слов и фраз, помещенных в том же чувашском букваре, и затем читают по известной азбуке гр. Толстого, каждое слово и группу переведя с русского на чувашский язык. Обучение по прочим предметам в обозначенные два года производится тоже на чувашском языке, но чтение слов, фраз и легких статей русской книги с переводом на родной ученикам язык, ровно обращение с учениками старших отделений, обыкновенно уже умеющих объясняться по-русски, настолько научает учеников двух младших отделений русскому языку, что с третьего года представляется возможным на нем вести обучение их всем предметам и к чувашскому обращаться лишь как к вспомогательному средству для более ясных и всесторонних объяснений встречающихся трудностей. Мордва, татары и эстонцы обучаются прямо на родном языке, но так как на первых порах своего пребывания в школе многие из них ничего не знают по-русски, другие — очень мало, то преподавателям, по необходимости, приходится говорить с ними на их отечественном наречии, на нем объяснять каждую изучаемую букву, слово, фразу, черту, число и прочее, как ровно к нему же прибегают для объяснений всего малопонятного на дальнейших ступенях начального обучения [8, л. 14].
-
5) Метод обучения русскому языку в инородческих школах совпадает с обучением чтению по русским книгам гражданской печати, так сказать, добавляя и сопровождая практическим способом усвоения русской разговорной речи. В чувашских школах с четырехлетним курсом, как сказано выше, обучение два года ведется на родном ученикам языке, причем однако они практически знакомятся и с русским, в остальных школах так называемые предварительные беседы, имеющие целью ознакомить детей с новой для них школьной обстановкой и подготовить материал для последующих звуковых упражнений при обучении грамоте, тоже ведутся на инородческих языках, причем ученики понемногу запоминают русское название окружающих предметов, а равно значение и тех русских слов, которые будут встречаться при упо-
- мянутых звуковых упражнениях. Многие опытные преподаватели самые эти звуковые упражнения некоторое время ведут на инородческих языках, и лишь потом, когда детское ухо и мысль научатся выделять элементы слова в русском языке, переходят к малому из слов русских, или совсем неизвестных, или мало известных их ученикам и ученицам [8, л. 14 об.]. Затем изучение каждой новой буквы, составление слов из разных печатных букв, письмо и чтение каждого нового слова сопровождается для учащихся постепенным обогащением их в знании русского языка, чтении отдельных слов, фраз и статей принятого учебника, всегда соединяющихся переводом читаемого на родной ученикам язык, составляет дальнейшую и обычную форму изучения инородцами русского языка [8, л. 14 об.]… Усвоению последнего много помогает живая русская речь учителя и самих учеников, а ровно обязательная передача содержания прочитанного по-русски. Впрочем, в младшем отделении содержание прочитанного связно рассказывается на инородческом языке, а на русском передается лишь знание отдельных слов и выражений, в среднем же и в особенности старшем отделениях всегда требуется русский рассказ прочитанного, который большей частью излагается потом и письменно. Таким образом, упражняясь в чтении постепенно осложняющихся по содержанию статей… для чтения, ученик знакомится с русским языком, опыт в котором еще больше расширяется и укрепляется письменными работами, занятиями по другим учебным предметам и упражнениями в разговорной речи [8, л. 15]. Всем хорошим учебникам для выполнения изложенного метода обучения следует признать «Азбуку» граж. Л. Н. Толстого и его же первые три книги для чтения, которые потому мы всегда и рекомендуем вниманию преподавателей инородческих школ. Полезно также руководство Вельпера «Русская речь», употребляющееся преимущественно в мордовских училищах Ардатовского уезда, в чувашских школах с четырехлетним курсом всюду употребляется «Чувашский букварь» Яковлева. Но при всех перечисленных учебниках, как чрезвычайно мало содержащих в себе образовательнонаучного материала, изложенного в элементарной форме, приходится употреблять и другие учебники известных авторов: Баранова, Тихомирова, Ушинского, которые по многим своим статьям трудны не только для инородцев, но и для русских» [8, л. 15 об.].
Ишерский И. В. уточняет, что дать точный ответ на вопрос о том, каких результатов дос- тигли ученики в инородческих школах в отношении владения русской речью, «…довольно мудрено, но без преувеличения можно сказать, что чуваши и мордва при окончании курса хорошо объясняются по-русски, хотя иногда и допускают при этом известные ошибки против произношения, расстановки и сочетания слов, но всегда говорят ясно, толково, без грубых искажений. Запас русских слов у них довольно обширен, так как, простираясь на потребность речи обыденной, он охватывает также знакомые слова и выражения, встречавшиеся в простейших учебниках. Ученики из татар хуже обозначенных инородцев говорят по-русски, допускают искажения против синтаксиса и этимологии языка, так что речь их часто неясна и непонятна. Эстонцы еще не оканчивали курс, и потому об их познаниях нельзя сказать ничего определенного. Познания учеников двух первых отделений соответствуют пройденным учебникам, и в то время как самые младшие из них (учеников) располагают запасом преимущественно отдельных слов и простейших предложений, относящихся к условиям ближайшей обстановки, ученики среднего отделения настолько уже овладевают русскою разговорною речью, что связно рассказывают о том, что твердо знают и ясно поняли» [9].
11 марта 1897 года И. В. Ишерский повторно пишет представление управляющему Казанским учебным округом и сообщает дополнительно об обучении родному языку в инородческих училищах Симбирской губернии:
«1) Обучение родному языку в 4-х и 3-летних курсах в инородческих училищах Симбирской губернии ограничивается чтением и письмом, уроки по которым назначаются вместо славянского чтения, а ровно смотря по подобному, уделяются на них часы от уроков чтения и письма по-русски. Точно обозначить количество часов на оба предмета я не могу, так как на этот предмет не установлено более или менее определенных норм [8, л. 9], как равно и самое изучение упомянутых предметов допускается скорее как вспомогательное образовательное средство... Но само собой разумеется, что чтение по инородческим школам и письмо не смешивается с теми же предметами русского языка, особенно в татарских школах. Письмо и чтение по-чувашски почти совпадает с письмом и чтением по-русски, потому что чувашский алфавит почти ничем не отличается от русского [8, л. 9 об.].
-
2) Чувашских школ с 3-летним курсом почти нет в Симбирской губернии (их состоит в Кар-сунском уезде всего 2 и в Сызранском — 2), и в имеющихся обучение производится прямо на
русском языке, причем чувашский употребляется лишь как вспомогательное средство. Четырехлетних инородческих не чувашских школ в губернии не существует, но в эстонских впоследствии такой, может быть, придется установить» [8, л. 9—9 об.].
Кошкинское чувашско-инородческое училище Буинского уезда было первым, в котором стала применяться новая образовательно-воспитательная система просвещения инородцев, здесь впервые обнаружила она свои добрые плоды и потом стала постепенно распространяться по всем прочим чувашско-инородческим училищам Буинского уезда. Поэтому, когда требования на широту и законченность начального образования стали повышаться в самом местном населении, И. В. Ишерский в 1897 году поддержал это стремление. 13 марта 1897 года он пишет представление попечителю Казанского учебного округа о Кошкинском Буинского уезда инородческом училище, в котором ходатайствовал о преобразовании Кошкинского одноклассного сельского училища в двухклассное, с тем чтобы сделать его для прочих чувашско-инородческих училищ предметом, достойным подражания [10].
1 июля 1903 года была упразднена должность инспектора чувашских школ Казанского учебного округа [11]. Все дела по ведению чувашских училищ И. Я. Яковлев передаёт директору народных училищ Симбирской губернии.
17 октября 1907 года попечитель Казанского учебного округа направил директору народных училищ Симбирской губернии И. В. Ишер-скому предписание о предоставлении сведений по распространению образования среди русского и инородческого населения Симбирской губернии. 31 декабря 1907 года Иван Владимирович представил эти сведения попечителю Казанского учебного округа [12, л. 38—49 об.]. Отвечая на вопрос «Что надо сделать для дальнейшего развития собственно инородческого образования?», он высказывает следующее:
«1) Необходимо энергично открывать новые и новые училища в инородческих поселениях, не ограничиваясь перед крупнейшими затратами, и притом, если не исключительно, так во всяком случае преимущественно из средств казны. Местные финансовые источники слабы, и если в вопросе о распространении просвещения в народе вообще, в частности и среди инородцев, денежные размеры основывать преимущественно из местных источников, то пройдут века, и школа все-таки не будет доступна всему населению. Теперь… в среднем в губернии одно училище приходится больше, чем на 1400 жителей, а в инородческих селах и того больше, а в татарских деревнях 9 русско-татарских училищ падает на 80 807 душ, т. е. одно училище приходится на 8979 жителей. Правда, у татар имеется много магометанских конфессиональных школ, в Симбирской губернии татары все магометане, но они почти не имеют общеобразовательного значения и поэтому не могут быть принимаемы в расчет [12, л. 48].
-
2) Затем необходимо как можно скорее ввести обязательность учреждения начальной школы на определенное количество жителей, а потом, как только известная местность будет располагать достаточным числом школ для того, чтобы все дети школьного возраста могли в них поместиться, так немедленно делать обязательным самое обучение, на первых порах ограничивая такую обязательность малым сроком и самым кратким учебным курсом. Мордва и чуваши охотно стремятся в школу, и потому проектируемая обязательность для них не покажется тяжелой, особенно если денежные расходы при этом с их стороны не будут обременительны по размерам. Но татары упорно устраняются от русской школы, даже отказываются вводить изучение русского языка в своих медресе и мек-тебе, а потому желательное нововведение для них будет неприятно. Однако останавливаться пред этой неприятностью не следует, ибо давно пора осознать, что обладание минимальным образовательным цензом есть государственная обязанность, от которой никто из верноподданных не может, никому нельзя и всем невыгодно отказываться [12, л. 48 об.].
-
3) Вопрос о применении инородческого языка в инородческих школах до сих пор является предметом раздора, а между тем… начальное обучение только тогда определенно настраивается, выстраивает и культивирует ребенка, когда ведется на доступном и родном ему языке. В противном случае ребенок весьма долго только учит слова чужого для него языка, надолго, а может быть даже навсегда оставаясь в душе с тем грубым и темным настроением, какое образовалось в нем под влиянием совершенно не просвещенной ближайшей среды [12, л. 48 об.—49]. Поэтому, оставаясь при убеждении, что каждая инородческая школа обязана основательно обучать своих питомцев русскому государственному языку, думаю, что возможно широкое употребление родного учащимся языка во всякой русско-инородческой школе благотворно отразится на просвещении инородца, привяжет его к школе, сильнее возбудит в
нем сочувствие к просветительным интересам, даже теснее сблизит его с русским народом [12, л. 49].
-
4) Успех всякой школы, всегда привлекающий к ней население, прежде и больше всего зависит от преподающего лица: разумен, рачителен и предан делу учитель — и школа хороша, наоборот: плох учитель — плоха и школа. Поэтому, если обеспечение русских школ хорошими учителями составляет серьезную заботу администрации и содержателей учебных заведений, — то в инородческих школах, где учебные занятия много сложнее и напряженнее, благоприятное разрешение поставленного вопроса представляется еще более настоятельным и важным . А если это так, то на подготовку учителей для инородческих училищ должно быть обращено самое серьезное внимание и никакие сокращенные или облегченные испытания на приобретение преподавательских прав в инородческих школах не должны быть допускаемы.
Малокультурный, неразвитый и неподготовленный учитель скорее вредит школе в мнении населения, чем привлекает его к последней, в чем не трудно было убедиться из многих соответствующих действительности примеров [12, л. 49—49 об.].
-
5) Если личность педагога так важна в успехе школьного дела, то всякий учитель и учительница должны быть настолько удовлетворительно обставлены материально и нравственно, чтобы данное положение их самих удовлетворяло и привязывало к себе. Материальная нужда, оторванность от общества, неопределенность правового положения, необеспеченность на случай инвалидности и старости и прочего являются главнейшими врагами, против которых необходимо ратовать всем деятелям по народному образованию, если только они желают иметь в учителе устойчивость и привязанность к служению. Правило это важно для учителей вообще, а так как положение преподавателей инородческих школ часто оказывается наиболее тяжелым, то здесь над осуществлением его, этого правила, требуется особая тщательность и настойчивость [12, л. 49].
-
6) В инородческих селах и деревнях полезно устраивать и поддерживать все то, чем возбуждается и поддерживается народная самодеятельность и любознательность, а именно: устраивать библиотеки, повторительные и воскресные классы, профессиональные курсы, чтения и прочее [12, л. 49]. Все это одинаково полезно и важно осуществлять и в русских на-
- селениях, но в инородческих при всем этом необходимо дать достаточно простору инородческому языку, без применения которого чтения, классы и курсы будут совершенно бесполезны для многих инородцев» [12, л. 48—49 об.].
Это предложение И. В. Ишерский отправил попечителю Казанского учебного округа 31 декабря 1907 года, будучи уверенным в том, что начальное обучение тогда определенно настраивает, выстраивает и культивирует ребенка, когда ведется на доступном и родном ему языке [12, л. 49 об.].
Деятельность И. В. Ишерского по «инородческому» образованию была положительно оценена в 1908 году И. Я. Яковлевым. И. В. Ишер-ский был приглашен на празднование 40-летия основания Симбирской чувашской школы [13]. В своей речи на праздновании сорокалетия Симбирской чувашской школы 28 октября 1908 года И. Я. Яковлев дал высокую оценку деятельности Ивана Владимировича по «инородческому» образованию: «Связь нашей школы с делом начального образования в губернии — несомненная. И я всегда в своей деятельности имел в виду эту связь и всегда дорожил ею. И если наша школа действительно имела какое-либо значение в деле начального обучения населения Симбирской губернии, то в этом случае она многим обязана бывшему директору народных училищ И. В. Ишерскому. Он с самого поступления на службу в Симбирскую губернию заявлял себя со стороны глубокого сочувствия инородческому делу и за все время своего управления начальными училищами Симбирской губернии сохранял дружественные отношения с чувашской школой. Только при его деятельной поддержке я имел возможность открыть ряд школ в чувашских селениях» [3, с. 29—30].
К 1907 году общее количество инородческих училищ Симбирской губернии за 22 года увеличилось на 134 и достигло 149, в том числе чувашских — 79, мордовских — 58, татарских — 9, эстонских — 3 [14].
Татарское население, пользуясь начальными училищами в крайне ограниченном размере и весьма неохотно, своим подрастающим поколениям давало конфессиональное магометанское образование в медресе и мектебе, которых в губернии было 168.
И. В. Ишерский, выполняя должностные обязанности директора народных училищ Симбирской губернии и придерживаясь своего личного мнения, старался решить проблемы инородческого образования в Симбирской губернии. Несмотря на то, что политика правительства была направлена на русификацию населения, в Симбирской губернии, где проживали вместе с русскими и инородцы (чуваши, татары, мордва), по развитию инородческого образования было сделано немало: открывались инородческие школы, преподавание в школах началось вестись на инородческом языке.
-
1. Пережогин Н. С. Основные направления государственной политики в области мусульманского образования в России во второй половине XIX в. // История государства и права. 2008. № 18. С. 27—29.
-
2. Кураков Л. П. И. Я. Яковлев и дело его жизни // Яковлев И. Я. Моя жизнь: Воспоминания. М., 1997. С. 10.
-
3. На память о сорокалетии Симбирской чувашской школы (28 октября 1868 — 1908 г.) : сб. / сост. М. Лебяжьев, В. Никифоров, И. Дормидонтов, Н. Колосов, В. Орлов, И. Димитриев, И. Степанов. Симбирск, 1910.
-
4. НАРТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 115.
-
5. Отчет о состоянии начальных народных училищ Симбирской губернии за 1886 год, составленный директором училищ Ив. Ишерским // Вестн. Симбирского земства. 1887. № 12. С. 6.
-
6. Отчет директора И. Ишерского о состоянии народных училищ Симбирской губернии за 1893 год // Вестн. Симбирского земства. 1895. № 7, 8.
-
7. Отношение Инспектора чувашских школ Казанского учебного округа, от 22 октября 1896 г., за № 1030 // Вестн. Симбирского земства. 1896. № 11, 12 (нояб. и дек.). С. 141.
-
8. ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 729.
-
9. ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 729. Л. 13—16; Ишерский И. В. Инородческие училища // Отчет о состоянии начальных народных училищ Симбирской губернии за 1896 год / сост. директор училищ И. В. Ишер-ский. Симбирск, 1898. С. 60—65.
-
10. ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 305. Л. 7—8 об.
-
11. ГАУО. Ф. 99. Оп. 2. Д. 982. Л. 1.
-
12. ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 75.
-
13. ГИАЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 602. Л. 1—1 об.
-
14. Отчет о состоянии народных училищ Симбирской губернии за 1907 год / сост. директор училищ И. Ишерский. Симбирск, 1908.
* * *
Список литературы «Инородческое» образование в Симбирской губернии в конце XIX - начале XX века
- Пережогин Н. С. Основные направления государственной политики в области мусульманского образования в России во второй половине XIX в.//История государства и права. 2008. № 18. С. 27-29.
- Кураков Л. П. И. Я. Яковлев и дело его жизни//Яковлев И. Я. Моя жизнь: Воспоминания. М., 1997. С. 10.
- На память о сорокалетии Симбирской чувашской школы (28 октября 1868 -1908 г.): сб./сост. М. Лебяжьев, В. Никифоров, И. Дормидонтов, Н. Колосов, В. Орлов, И. Димитриев, И. Степанов. Симбирск, 1910.
- НАРТ. Ф. 968. Оп. 1. Д. 115.
- Отчет о состоянии начальных народных училищ Симбирской губернии за 1886 год, составленный директором училищ Ив. Ишерским//Вестн. Симбирского земства. 1887. № 12. С. 6.
- Отчет директора И. Ишерского о состоянии народных училищ Симбирской губернии за 1893 год//Вестн. Симбирского земства. 1895. № 7, 8.
- Отношение Инспектора чувашских школ Казанского учебного округа, от 22 октября 1896 г., за № 1030//Вестн. Симбирского земства. 1896. № 11, 12 (нояб. и дек.). С. 141.
- ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 729.
- ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 729. Л. 13-16; Ишерский И. В. Инородческие училища//Отчет о состоянии начальных народных училищ Симбирской губернии за 1896 год/сост. директор училищ И. В. Ишерский. Симбирск, 1898. С. 60-65.
- ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 305. Л. 7-8 об.
- ГАУО. Ф. 99. Оп. 2. Д. 982. Л. 1.
- ГАУО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 75.
- ГИАЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 602. Л. 1-1 об.
- Отчет о состоянии народных училищ Симбирской губернии за 1907 год/сост. директор училищ И. Ишерский. Симбирск, 1908.