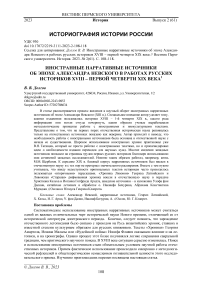Иностранные нарративные источники об эпохе Александра Невского в работах русских историков XVIII - первой четверти XIX века
Автор: Долгов В.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Историография истории России
Статья в выпуске: 2 (61), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс введения в научный оборот иностранных нарративных источников об эпохе Александра Невского (XIII в.). Специальное внимание автор уделяет тому, какими изданиями пользовались историки XVIII - 1-й четверти XIX в., какого рода информацию они могли оттуда почерпнуть, каким образом ученые вырабатывали методологические принципы работы с иностранными и инокультурными текстами. Представление о том, что на первых порах отечественная историческая наука развивалась только на отечественных источниках показано как неверное. Автор приходит к выводу, что необходимость работы с иностранными источниками была осознана в отечественной науке с начала ее существования. Широкое использование иностранных хроник практиковал уже В.Н. Татищев, который не просто работал с иностранными текстами, но и пропагандировал идею о необходимости издания переводов для научных нужд. Многие сведения западных источников попадали на страницы трудов первых русских историков благодаря использованию ими сочинений западных исследователей. Именно таким образом работал, например, князь М.М. Щербатов. К середине XIX в. базовый корпус нарративных источников был введен в отечественную науку и с тех пор не претерпел значительного расширения. Вместе с тем нужно учитывать, что ввиду недоступности оригинальных текстов историкам часто приходилось пользоваться «вторичными» пересказами. «Хроника Ливонии» Генриха Латвийского и Ливонская «Старшая» рифмованная хроника вошли в отечественную науку в передаче Христиана Кельха и Иоганна Готфрида Арндта, шведские источники - в изложении Улофа фон Далина, китайские летописи в обработке о. Иакинфа Бичурина, Абрахама Константина Мураджи д’Оссона и Юлиуса Генриха Клапрота.
Александр невский, нарративные источники, генрих латвийский, х. кельх, и. г. арнд, у. фон далин, иакинф бичурин, а. д'оссон, ю. г. клапрот
Короткий адрес: https://sciup.org/147245305
IDR: 147245305 | УДК: 930 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-2-108-118
Текст научной статьи Иностранные нарративные источники об эпохе Александра Невского в работах русских историков XVIII - первой четверти XIX века
Постановка проблемы
Систематическое использование иностранных нарративных источников может считаться одной из важных отличительных черт исторической науки Нового времени, отличающей ее от исторической литературы допетровского периода. Конечно, следует помнить, что зарождение отечественного летописания было связано с приходом на Русь византийских хроник, ставших в известной степени культурным образцом для русских книжников. Тексты «Хроники» Георгия Амартола, Иоанна Малалы или «Иудейской войны» Иосифа Флавия оказывали влияние и на летописи, и на хронографы. Однако процесс этот более подчинялся логике сохранения сакральной традиции, чем критического научного поиска. В XVIII веке ситуация серьезно изменилась. Поиск и использование иностранных источников стали обязательным условием научной работы отечественных историков. Причем фактическое использование происходило синхронно с методологической рефлексией и общетеоретическим осмыслением познавательной ценности этого исследовательского приема. Изучению произошедших перемен посвящена настоящая статья.
Иностранные источники в работах историков XVIII века
С иностранными нарративными источниками по отечественной истории начал работать уже В. Н. Татищев. Он широко привлекал их для создания своей «Истории Российской». Особенно большую роль сыграли добытые оттуда сведения при сборе материалов для первых двух частей. Татищев сверял летописные данные с известями византийских и латиноязычных хроник, цитировал сочинения польских, немецких историков и пр. Его творческая лаборатория открывается нам в примечаниях к его труду, в которых историк делится с читателем своими сравнениями, догадками и сомнениями.
Событиями, посвященными эпохе Александра Невского, открывается третья часть его труда, судьба которой сложилась гораздо сложнее, чем судьба первых двух. В. Н. Татищев не успел закончить работу над ней, не смог должным образом организовать переписку набело своей рукописи. Служебные обязанности заставили его покинуть Петербург и пуститься в дальний путь для того, чтобы приступить к исполнению должности Астраханского губернатора. Судьба третьей части была исследована и описана С. Н. Валком [ Валк , 1996]. Рукопись книги оказалась частично утраченной. Сохранившийся текст не имеет ни примечаний, ни «Предъизвесчения», о котором упоминал Татищев во второй части «Истории». Меж тем в этом «Предъизвесчении» содержалось, видимо, немало полезной информации. Так, например, в примечаниях ко второй части историк писал: «Вождь главный их был Тосхус хан, сын Чингизов, отец Батыев. Карпеин, артикул 5. Яснее же о сем я в примечаниях на Карпеина, Асцелина, Рубрика, Венета и Бержерона, переведенных на руской язык, а о четырех родах мунгалов в предъизвещении III части объявил и в колендаре 1744 и 45 годов, но калмыки иначей разделяют» ( Татищев , 1995, с. 465). То есть, как видим, Татищев использовал произведения Плано Карпини, Асцелина, Марко Поло (которого Татищев именует Венетом) и труд французского географа XVII в. Пьера Бержерона. Бержерон опубликовал на французском языке тексты Рубрука, Карпини и Асцелина. Этой публикаций и пользовался В. Н. Татищев. Для этого он нанял специального переводчика, о чем писал в июле 1745 г. И. Д. Шумахеру ( Татищев , 1895, с. 492). Кроме того, в его распоряжении были сведения, полученные из устной традиции калмыков. Эти сведения он получил, надо полагать, во время работы в Оренбургской экспедиции, Калмыцкой комиссии и прочих его разъездах и путешествиях.
В основном иностранные источники для составления истории XIII в. В. Н. Татищев использовал для освещения темы монголо-татарского нашествия. Более всего его интересовали вопрос этногенеза монголов и проблема этнонима «татары».
Важно отметить, что В. Н. Татищев не только сам пользовался иностранными историческими источниками, но и пропагандировал идею о необходимости издания переводов для научных нужд [ Юхт , 1985, с. 39–51]. В Академию наук им была подана «Промемория», в которой он писал: «Для изъяснения русской гистории, как императорской академии более известно, что потребно паче всех польские и древние шведские гистории; но как оныя наиболее на таких языках писаны, которых не всяк русский разумеет, да и тех достать желающему не безтрудно, того ради польскую и латинскую Кромерову госторию велел я обретающемуся здесь, в латинской школе, учителю Кондратовичу перевести, и оную переплетенную в 4 части при сем посылаю. А притом и напоминаю, что хотя в оной на Русское государство многия лжи и злобная поношения и клеветы находятся, однакож, я все велел перевести, как творец написал, и желал сам, колико возможно, оные неправости о их же русских гисториков обличить и темности изъяснить, которое было и начал на стороне кратко и особно записывать; но видя, что мне на то времени и книг нужных недостает, а при академии как людей на то способнейших, так и книг потребных не оскудевает, оную послал какова есть, и о напечатании оной подаю к разсмотре-нию императорской академии наук. И ныне же велел переводить Гелмолдиеву хронику славя-нов, с латинского, и Геродотову с немецкого, зане во оных многое до нашей гистории надлежащее находится. И о том императорская академия наук благоволит учинить по Ея И.В. указу. В. Татищев» ( Татищев , 1896, с. 257–258).
Как видим, работа с иностранными источниками была осмыслена В. Н. Татищевым как важный методологический принцип. Этой сознательной нацеленностью на дополнение русских источников иностранными историография Нового времени весьма радикально отличается от исторических трудов допетровского периода, когда общий строй интеллектуального творчества был совершенно иным [Долгов, 2021]. Хотя Татищева по понятным причинам называют «последним летописцем», его подход отличался от настоящего летописного именно широтой охвата «входящей» информации. В отечественной историографии после Татищева еще случится несколько эпох, когда исследователи будут обращать внимание на иностранные тексты и поднимать вопрос о недостаточности использования инокультурных, иноязычных текстов для работы над сугубо внутренними темами. И всякий раз поле этих источников будет представляться «непаханым». Это, однако, несправедливо. Понимание необходимости комплексной работы с русскими и иностранными источниками, как видим, было присуще отечественной научной исторической школе от самого ее основания.
Анализируя труд В. Н. Татищева, можно заметить, что для работы над описанием событий начала XIII в. он использовал иностранные источники практически исключительно для описания этнической истории татар, но не воспользовался иной пригодной к тому информацией. Так, например, мимо его внимания прошло описание пребывания великого князя Ярослава Всеволодовича в ханской ставке, сделанное Плано Карпини.
Практику В. Н. Татищева продолжил князь М. М. Щербатов. В предисловии к своей «Истории Российской от древнейших времен» князь писал: «В продолжении моего труда, я елико возмог, держался Российских летописателей, не оставляя однако и с чужестранными, которые у меня есть, или которые по знаемым мною языкам я мог разуметь, оные сводить, наблюдая всегда в том, что касается внутренних дел России, давать предпочтение Российским летописцам пред другими; ибо естественно есть, что сии, яко пред очами их бывшие дела, более могли знать, нежели чужестранные, и тем паче, что оные писатели были почти все современники ими описуемых дел, яко о сем буду иметь случай здесь ниже помянуть» ( Щербатов , 1770, с. V). Следуя означенному принципу, Щербатов посвятил небольшой источниковедческий очерк, которым начинается его труд, рассмотрению использованных им русских летописей, а иностранные источники характеризовал по мере необходимости в тексте основного повествования.
В работе над описанием событий, связанных с временем Александра Ярославича, М. М. Щербатов сделал важный шаг вперед по сравнению с В. Н. Татищевым, который в аналогичной части своего труда действительно проявил себя как «последний летописец». Щербатов берет за основу летописное повествование, однако вплетает в него сведения по западной истории, которые он, впрочем, черпает не непосредственно из источников, а «из литературы», то есть из работ других историков: в ссылках его труда встречается некое «Описание Лифлян-дии», «Дацкая история господина де Ла Роша» и пр. Прежде всего в интересующих нас вопросах он ориентировался на «Датскую Историю» Поля Анри Малле, швейцарского историка, профессора литературы в Копенгагенской академии, первого в мировой науке специалиста по средневековой Скандинавии. Оттуда Щербатов черпал сведения по истории Тевтонского и Ливонского орденов. Скорее всего, князь пользовался французским текстом, немецким переводом или специально сделанным для него переводом на русский язык. Некоторое время спустя после выхода «Истории» Щербатова книги Малле стали популярны у русского читателя, они выдержали несколько изданий ( Малле , 1777; Малле , 1785). Можно заметить влияние П. А. Малле на творческую манеру Щербатова. Так, например, князь точно так же, как швейцарский историк, всегда особенно отмечал случаи, когда источник доносил до нас голос современника событий. Понимание ценности таких свидетельств вроде бы несложная мысль. Однако Татищев не уделял ей столько внимания, сколько уделял Щербатов. В целом труд М. М. Щербатова принято оценивать как громоздкий, не вполне стройно организованный и наполненный досадными ошибками [ Халявин , 2009, с. 74–79]. Тем не менее князь сделал ощутимый вклад в построении современного научного исторического мышления. Да и в литературном смысле он пошел существенно дальше Татищева.
Западные источники в трудах Н. М. Карамзина и Н. А. Полевого
После М. М. Щербатова «повествовательный» период в отечественной исторической науке, едва успев начаться, закончился. Настала пора периода «критического». Как это нередко бывает, методологический принцип получил изначально жизнь как теоретическая идея, а уж затем стал постепенно формироваться опыт его практического воплощения. Силами И. Н. Болтина, А. Л. Шлецера, М. Т. Каченовского и пр. сформировалось общее представление, что нарративные источники требуют проверки при помощи источников другого рода. Что же касается реализации, то она производилась отнюдь не только теми историками, которых принято в историографических трудах причислять к «скептикам». Так, в изучении жизни и деятельности Александра Невского удачный опыт использования немецких хроник показал Н. М. Карамзин.
Наиболее информативными немецкими (по происхождению и/или языку) источниками, освещающими историю русской политики в Прибалтике в 1-й половине XIII в., являются «Хроника Ливонии» Генриха Латвийского и Ливонская «Старшая» рифмованная хроника. Во времена, когда работал Н. М. Карамзин, «Хроника Ливонии» была уже опубликована на языке оригинала, т.е. на латыни, Й. Д. Грубером ( Gruber , 1740). Однако эта публикация, видимо, была недоступна великому русскому историографу. Что же касается Рифмованной хроники, то ее частичная публикация произошла в 1787 г., а относительно полный список – только в 1817 г., когда соответствующая часть карамзинского труда уже была издана.
Чем же пользовался Карамзин? Он пользовался «Прусской Хроникой» Петра из Дусбур-га, используя достаточно редкое издание латинского текста конца XVII в. ( Карамзин , 1819, с. 12; Petri de Dusbug , 1679) [ Матузова , 1997, с. 218–252]. Из «Хроники» он взял общие сведения об истории Тевтонского ордена, позволявшие оценить его роль и значение на политической карте Прибалтики. В частности, Карамзин обратил внимание на сюжет в «Хронике», в котором говорится, что магистр Герман фон Зальца был настолько значительной и уважаемой фигурой, что к нему за судом обращались папа Гонорий III и император Фридрих II ( Карамзин , 1819, с. 18; Петр из Дусбурга , 1997, с. 16).
Кроме того, Н. М. Карамзин использовал в работе тексты, к которым современные исследователи обращаются нечасто ввиду их вторичности по отношению к более древним аутентичным источникам.
К числу подобного рода текстов относится «Лифляндская история» Христиана Кельха ( Kelch , 1695). Карамзин ссылается на тот ее фрагмент, где подробно описываются перипетии взаимоотношений немецких рыцарских орденов, епископств, прибалтийских племен и -в самой малой степени - русских князей. Собственно, Карамзин опирается на труд Кельха как на источник информации по истории Ливонского ордена в Прибалтике.
Еще в середине прошлого века латвийский советский историк Я. Я. Зутис отмечал, что наследие Х. Кельха изучено плохо [ Зутис , 1949, с. 58]. С тех пор положение изменилось несильно. Впрочем, понятно, что в тех частях, которые интересовали Карамзина при написании первой главы четвертого тома, т.е. при изложении событий второй четверти XIII в., «История» Кельха не содержит оригинальной информации и является компиляцией других более ранних немецких хроник. Зутис отмечал, что источниками для издания Кельха послужили сочинения Руссова, Фабрициуса, Генинга и др. [Там же, с. 57]. Так, например, фрагмент о взятии Александром Невским (Alexander, Fürst von Naugarden) Пскова ( Kelch , 1695, р. 86) явно заимствован Кельхом из «Ливонской хроники» Бальтазара Рюссова ( Россов , 1879, с. 197). Кельх вслед за Рюссовым упоминает 70 убитых и шесть «замученных до смерти» братьев ордена. Эта информация будет использована Карамзиным со ссылкой на другого хрониста, о котором пойдет речь далее, а в «истории» Кельха историографа привлекали «антуражные» фрагменты, показывающие яркие черты рыцарского быта и мировоззрения. На такие пассажи Карамзин как литератор обращал внимание и даже цитировал. Цитировал Карамзин, впрочем, не дословно, а передавал общий смысл сообразно своему научному и художественному замыслу (таблица).
В цитате проявилось сочетание строгой немецкой сдержанности и нахального предвкушения грядущих барышей, что привлекло внимание Н. М. Карамзина как художника. В тексте «Истории» цитата поясняет корыстный характер политики ордена в Прибалтике.
Изданием, подобным «Истории» Х. Кельха, является труд немецкого историка Иоганна Готфрида Арндта, именуемый «Лифляндской хроникой» (Arndt, 1747). На него также часто ссылается Карамзин. Издание состоит из двух частей. На титульном листе первой части книги И. Г. Арндт обозначен скромно как переводчик латинского текста «Хроники», изданного упомянутым Йоганном Даниелем Грубером. Эта «Хроника» – Хроника Генриха Лавтийского. Таким образом, пусть не в непосредственном виде, а в виде немецкого перевода «Хроника» Генриха могла быть Карамзину известна. Однако ссылается историк в основном на вторую часть «Хроники» Арндта, изданную в 1753 г. (Arndt, 1753). Если в первой части Иоганн Готфрид Арднт назван директором школы в Аренсбурге (der Schule zu Arensburg auf Desel Rector), то во время издания второй он стал уже конректором императорского Рижского лицея (des Kaiserlichen Lycei zu Riga Conrector). И сам титул книги содержит указание на широту ее тематического охвата. Она позиционируется как история ордена и окружающих народов, написанная с «привлечением печатных и непечатных писателей» (mit Zuziehung der gedruckten und ungedruckten Schriftsteller) (Ibid., p. 1).
Влияние текста Х. Кельха на текст Н. М. Карамзина
|
Kelch Ch. Liefländische Historia |
Перевод |
Карамзин Н.М. История государства российского |
|
Wo du meinest in di-esem Orden eingugchen/ eines ruhigen / guten und sanfften Lebens halber/fo mirst du hochlich betrogen; denn in diefem Orben ist es also be-schaffen; Wann du zu Zeiten essen woltest/must du fasten /wann du fasten woltest/must du essen/ wann du schlaffen woltest/ must du wachen /unb wann du wachen woltest/ must du schlaffen. Bann dir geboten wird/ hieher ober dahin zu gehen/ ober hie und dort zu ste-hen / daß dir nicht behaget / dawieder must du nicht reben. Du must dich deines eigenen Willens ganz entschlagen / unb Vater und Mutter/ Bescbwister und aller Freunde ganz berzei-hen/ und diesem Orden ge-horsam unb treuer sehn /als ihnen, Dagegen gelobet dir unter Orden nicht mehr / als Wasser und Brodt / und ein demuthig Kleid/ unb magst ein mehrers nicht fodern; Wird es aber nach dieser Zeit beffer mit uns / baß mir etwas mehr-ers erwerben / mirst du es gleich andern mit geniessen / und hieran folt du dich begnügen lassen ( Kelch , 1695, р. 81–82). |
Если ты намерен вступить в этот орден/ ради тихой/ хорошей и счастливой жизни/ то ты будешь сильно обманут; потому что в этом ордене так устроено: когда вы хотите есть время от времени/ вы должны поститься/ когда вы хотите поститься/вы должны есть/ когда вы хотите спать/ вы должны проснуться/ и когда вы хотите проснуться/ вам нужно поспать. Когда тебе приказывают/ идти туда или сюда / или стоять тут и там /что тебе не нравится/ об этом не надо говорить. Ты должен отказаться от своей воли/ и полностью проститься с отцом и матерю/ оставить братьев и сестер, и всех друзей/ и повиноваться ордену, и быть более верным/ чем они. С другой стороны, наш порядок ничего вам не обещает, кроме воды и хлеба, и скромной одежды, и ты не сможешь просить большего. Но по прошествии этого времени у нас будет лучше/ что мы приобретем, что-то большее/ ты будешь наслаждаться этим с другими/ и ты должен быть доволен этим. |
«Если вступаешь к нам в общество с надеждою вести жизнь покойную и приятную, то удалися, несчастный! Ибо мы требуем, чтобы ты отрекся от всех мирских удовольствий, от родственников, друзей и собственной воли: что ж в замену обещает тебе? Хлеб, воду и смиренную одежду. Но когда придут для нас времена лучшая, тогда Орден сделает тебя участником всех своих выгод» ( Карамзин , 1819, с. 18). |
Сведения, содержащиеся во второй части, во многом повторяют сведения хроник Рюссо-ва, Кельха и пр. и, видимо, зависят от них. Упомянутый сюжет о гибели 70 братьев ордена и шести замученных изложен у Арндта следующим образом: Der Groskönig von Nogarden, Alexander, rückte vor Pleskow, in welchem Ort er, trotz aller Gegenwehr, 70 Ordensbrüder und manchen Deutschen niedermachte, 6 aber, die er lebendig bekam, über die Klinge springen lies (Великий король Ногардена Александр выступил перед Плесковом, где, несмотря на все сопротивление, убил 70 монахов и несколько немцев, но велел перепрыгнуть через лезвие 6 оставшимся в живых) (Ibid., p. 46). Карамзин сопоставил этот сюжет с событиями, которые, согласно русской летописной традиции, предшествовали Ледовому побоищу. Такой взгляд виделся вполне логичным, хотя в хрониках Кельха (Kelch, 1695, р. 86) и Арнда (Arndt, 1753, р. 46) развитие событий показано иначе. Согласно этим хроникам, описанные события происходили не в 1242, а в 1244 г. Тогда орденские власти, испугавшись активных действий Александра, повлекших столь значительные жертвы среди братии ордена, посылают посольство к королю Дании. В хронике Кельха король назван по имени: Erichen (т.е. Эрик IV Пловпеннинг). Король решает оказать ордену помощь. Он собирает могучий (eine mächtige) флот, который поручает возглавить своему брату Абелю. Из оговорки хрониста понятно, что король бы мог и сам возглавить войско, снаряженное в поддержку ордена, но побоялся оставить Абеля одного в королевстве. Однако снаряженный флот так и не был отправлен в поход, поскольку пришло известие, что Александр уже и сам отступил, и поэтому королевская помощь ограничилась отправкой небольших сил для укрепления пограничных пунктов.
Организация текста показывает, что информация хронистами была почерпнута из каких-то датских источников, до создателей которых сведения дошли с некоторым опозданием и не совсем точно. Очевидно, с немецкой и датской точки зрения, взятие Александром Пскова и последующая битва на Чудском озере были элементами одного события, и жертвы среди орденского контингента были посчитаны комплексно.
В целом методология работы и Христана Кельха, и Иоганна Готфрида Арндта напоминала методы работы В. Н. Татищева: она заключалась в создании критического свода имеющихся хроник, поэтому они занимают некое среднее положение между авторами, принадлежащими типологически к эпохе средневековых хронистов и историографией Нового времени. Если Татищева называют «последним летописцем», то Кельх и Арнд вполне могут быть названы «последними хронистами».
Кроме того, нельзя не упомянуть и об авторе, который был уже действительно историком, а не просто «хронистом», - Улофе (в орфографии XVIII в. Олоф) фон Далине (Olof von Dalin). Его социальный типаж был близок самому Н. М. Карамзину. Он получил известность как литератор, поэт и лишь затем занялся написанием истории своего отечества – Швеции. Сходства им добавляет еще и то, что Далин, подобно Карамзину, получил от короля официальный титул историографа. Его «История Швеции» вышла в русском переводе в 1805 г. ( Далин , 1805). Однако Карамзин пользовался немецким текстом.
Об Александре Невском шведский историк пишет довольно много (Там же, с. 263–264). Трактовка Далина несколько отличается от концепции Карамзина. В его труде можно найти немало тезисов, с которыми русский историк не мог быть согласен (причем не по идейнополитическим, а по вполне научным соображениям). Не мог Карамзин согласиться с изложенной Далином теории татарского этногенеза или с идеей о том, что Александр сражался против шведских войск совместно с татарскими силами. Однако, в отличие от русских интеллектуалов XVIII в., Карамзин не пускался в долгие и эмоциональные споры (тем более, что в целом шведский историк писал о России вполне нейтрально), а обращал внимание на факты, имеющие непосредственное отношение к его собственной научной работе, например, к вопросу о личности руководителя шведского войска в Невской битве. Карамзин сопоставил данные, почерпнутые у Далина, о том, что политику шведской короны в восточном направлении осуществлял ярл Биргер, с известиями «Рукописания Магнуша» ( Карамзин , 1819, с. 12). Далин не указывал прямо, что шведским войском на Неве руководил Биргер, поскольку само известие о битве почерпнул из перевода русской летописи. Однако весь раздел, в тексте которого шведский историк пишет об Александре Невском, посвящен именно Биргеру. Это делает понятным вывод Карамзина.
Труд Н. М. Карамзина, в котором, на первый взгляд, преобладает литературное начало, тем не менее стал новой вехой и в развитии истории как науки. Стиль изложения оказался напрямую связан с качеством интеллектуального синтеза. Исторические исследования «после Карамзина» так или иначе «отстраивались» от его фундаментального труда.
Антитезой «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина должна была стать «История русского народа» Н. А. Полевого. В целом задумка Полевого была понятной: сместить фокус внимания с событий, связанных с развитием государства, на факты «народной жизни». Однако провозгласить такой принцип было проще, чем реализовать. Честолюбивое желание составить конкуренцию обласканному двором и публикой историографу не было подкреплено у «историка из народа» ни должной теоретической подготовкой, ни литературным талантом. Об амбициях Н. А. Полевого с аристократической иронией высказался А. С. Пушкин. Поэт отмечал: «Желание противоречить Карамзину поминутно завлекает г-на Полевого в мелочные придирки, в пустые замечания, большею частию несправедливые» (Пушкин, 1962, с. 38).
Тем не менее желание это имело и положительные стороны. Как мы видели, Карамзин весьма подробно рассмотрел западные источники, освещающие взаимоотношения русских с католическими государственными образованиями в Прибалтике. Превзойти его в этом было сложно. Полевой и не пытался. В изложении указанной темы он опирался на отечественные летописные источники, а из зарубежных использовал уже знакомую нам «Хронику» Х. Кельха. Зато гораздо больше внимания историк уделил вопросу татарской этнической истории. Четвертый том его труда – это в значительной степени история не столько русского, сколько татарского народа. Такой «сюжетный ход» имел двойное назначение. Во-первых, он позволял соблюсти изначально намеченный принцип писать не столько политическую историю, сколько «историю народа». Во-вторых, подобного по степени широты и детализации обзора не было у Карамзина. Поэтому «татарская» тема увлекла Полевого. Соответственно, было уделено внимание и источникам, которые позволяли вести работу в этом направлении. Причем Полевой не только работал с источниками как историк, но и стремился к их аналитической систематизации ( Полевой , 1833, с. 102).
Н. А. Полевой и «восточные» тексты
Однако самыми, пожалуй, интересными источниками сведений, материалом которых наполнен четвертый том, были труды немногочисленных в то время востоковедов. Полевой много читал и цитировал их. Это действительно выгодно отличало его труд от произведения Карамзина. Причем пользовался Полевой новейшими на тот момент исследованиями. Прежде всего это было вышедшее в 1829 г. большое исследование русского монаха о. Иакинфа Бичурина «История первых четырех ханов дома Чингисхана» ( Иакинф , 1829), «История монголов» на французском языке шведского барона Абрахама Константина Мураджи д’Оссона ( D’Osson , 1824) и «Мемуары, относящиеся к Азии» немецкого путешественника Юлиуса Генриха Клапрота ( Klapoth , 1824).
Член-корреспондент Петербуржской академии наук о. Иакинф (в миру Никита Яковлевич) Бичурин считается одним из исследователей, заложивших основы отечественной синологии [ Денисов , 2007]. В Китае он оказался в составе православной миссии. Для исполнения миссионерских обязанностей архимандрит занялся изучением китайской культуры и языка. Никакой решительно литературы, которая бы могла ему помочь в этом деле, не существовало. Иакинф составил словарь, освоил письменный и разговорный китайский и маньчжурский языки. Однако цель, которая изначально мыслилась как вспомогательная, скоро стала основной. Церковные дела были заброшены. Иакинф всецело погрузился в исследовательскую работу.
Результаты его изысканий были более чем значительны, однако прямые служебные обязанности оказались в небрежении, поэтому по возращении в Россию он был подвергнут церковному суду и приговорен к ссылке на Валаам. Однако и в ссылке Иакинф продолжает научную работу, которая в конце концов была замечена. Бывший архимандрит был привлечен к работе Министерства иностранных дел и избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук. С помощью его трудов в России узнали Китай и получили огромное количество самых разнообразных сведений о его истории, хозяйстве, письменности и религии. Благодаря работе Бичурина русский читатель впервые получил доступ к китайским историческим хроникам. Впрочем, метод его работы был еще весьма далек от современных научных стандартов. Даже для XIX в. он выглядит, пожалуй, несколько архаично, напоминая манеру все того же Татищева. Однако в условиях полного отсутствия сведений его книга заполняла лакуну и закладывала основу для дальнейшего изучения восточных древностей.
Н. А. Полевой пользовался изданием «История первых четырех ханов дома Чингисхана», которое являлось не публикацией китайской хроники в современном смысле слова, а своеобразным конспектом сразу двух хроник, о чем добросовестно предупреждал сам о. Иакинф в предисловии к книге: «История эта не есть перевод какой-либо особливой книги, но извлечена из двух китайских сочинений, именно, из собственной истории Чингисова дома, царствовавшего в Китае под названием Юань, и из Китайской всеобщей истории, называемой “Тхун-цзянь- ган-му”. Первая из них служит основанием издаваемой мною книги, а из второй заимствованы некоторые подробности, относящиеся к пояснению того, что сказано уже в первой» (Бичурин, 2008, с. 7). Тем не менее значение его труда для развития русской науки сложно переоценить. Для работы Н. А. Полевого книга Иакинфа дала много полезных сведений. Она использовалась фактически в качестве источника.
Много полезной информации почерпнул Н. А. Полевой из книги барона д’Оссона. Эту книгу тоже, в сущности, нельзя назвать исследованием или публикацией источников в современном смысле слова. Однако она по количеству содержащихся в ней сведений долгое время оставалась непревзойденной и была высоко оценена академиком Б. Я. Владимирцовым. Книга д’Оссона построена на большом количестве восточных источников. Сам барон был полиглотом. Его подход емко охарактеризовал отечественный историк и этнограф профессор Н. Н. Козьмин: «Д’Оссоны были турецкие армяне. Они владели турецким, армянским и персидским языками. Мураджа д’Оссон перешел на шведскую службу, работал в Париже и издал большой труд “Картина Оттоманской империи” (1788–90). Наш автор носил титул (шведского) барона, был членом стокгольмских Академий наук и изящной словесности, упсальского научного общества и др. Над своим трудом он работал, главным образом, в Парижской и Лейденской библиотеках. Труд его написан в Париже и под сильным влиянием французской исторической школы, но издан в Голландии (в Гааге и Анстердаме). Он владел хорошо латинским языком и был знаком основательно с летописями немецкими, польскими, английскими и французскими на этом языке. Он владел русским языком и проштудировал русские исторические сочинения Щербатова (“История Российская”) и Карамзина (“История государства Российского”, вышедшая в 1816–24 гг.). Знание русского языка он использовал для того, чтобы проштудировать вышедших в 1829 г. “Первых четырех ханов” Бичурина. Все успевшие выйти в то время работы ориенталистов Клапрота, Абеля Ремюза были ему хорошо известны. Он стоял, безусловно, на уровне тогдашней ориенталистики» [ Козьмин , 1937, с. XI– XII]. Возможно, Н. А. Полевой с большим удовольствием пользовался бы оригинальными источниками. Однако их в его распоряжении не было. Книгу д’Оссона он читал как пересказ недоступных ему восточных источников, поэтому, цитируя д’Оссона, историк указывал тут же в скобках, что его в тексте барона занимают сведения, почерпнутые им, например, из Рашида да-Дина.
Книга Ю. Г. Клапрота в меньшей степени содержит выдержки из источников и больше, скажем так, теоретических обобщений. Именно к мнению Клапрота Полевой обратился, например, при описании процесса формирования этнонима «татары». Причем интересно, что мнению немецкого путешественника историк доверился в полной мере, хотя имел возможность при минимуме затрат произвести собственное исследование этого вопроса. Так, например, Клапрот писал: «Mais si l’on demande à un soi-disant Tatar de Kazan ou d'Astrakhan, s'il est un Tatar, il répond négativement; il appelle aussi l'idiome qu'il parle یت^^^^رک turki , et jamais تات ^ ^^^^^^ار tatari . N’ayant pas oublié que ses ancêtres ont été subjugués par les Mongols ou Tatars ; il regarde le nom de ces derniers comme une injure qui équivaut au mot voleur » [«Но если так называемого казанского или астраханского татарина спросить, татарин ли он, он отвечает отрицательно; также называет язык, на котором говорят, یت^^^^رک «тюрки», и никогда تات^^^^^^^ار «тата-ри». Не забывая, что его предки были порабощены монголами или татарами; он расценивает имя последнего как оскорбление, равнозначное слову «вор»] ( Klapoth , 1824, р. 474). Идею эту со ссылкой на Клапрота повторяет и Н. А. Полевой ( Полевой , 1833, с. 38).
Заключение
Как видим, к середине XIX в. базовый корпус нарративных источников был введен в отечественную науку и с тех пор не претерпел значительного расширения. Вместе с тем нужно учитывать, что ввиду недоступности оригинальных текстов историкам часто приходилось пользоваться «вторичными» пересказами. Иногда это влияло на формирование авторской концепции (как это произошло у Н. М. Карамзина или частично у Н. А. Полевого), но чаще ученые сохраняли необходимую критичность и работали с источниками вполне корректно и по меркам современной науки.
Список литературы Иностранные нарративные источники об эпохе Александра Невского в работах русских историков XVIII - первой четверти XIX века
- Валк С.Н. О рукописях третьей части "Истории Российской" В.Н. Татищева // Татищев В.Н. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 5, 6. История Российская. Ч. 3, 4. М.: Ладомир, 1996. 784 с.
- Денисов П.В. Слово о монахе Иакинфе Бичурине. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2007. 335 с.
- Долгов В.В. Древнерусская философия XI-XIII вв. в социально-антропологическом измерении // Вопросы истории. 2021. № 11(3). С. 32-44.
- Зутис Я.Я. Очерки по историографии Латвии. Рига: Латгосиздат, 1949. Ч. 1. 259 с.
- Козьмин Н.Н. Предисловие // Д'Оссон К. История монголов. От Чингиз-хана до Тамерлана. Т. 1. Чингиз-хан / пер. и предисл. Н. Козьмин. Иркутск: ОГИЗ, Восточносибир. обл. изд-во, 1937.
- С. V-XL. Матузова В.И. "Хроника земли прусской" Петра из Дусбурга как памятник истории и культуры Тевтонского ордена в Пруссии XIV века // Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. М.: Ладомир, 1997. С. 218-252.
- Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII - 1270 г. Тексты, перевод, комментарии. М., 2002. 488 с. EDN: RKLIPD
- Халявин Н.В. Историография истории России (дореволюционный период). Курс лекций. Ижевск: Удмуртский унивреситет, 2009. 236 с.
- Юхт А.И. В.Н. Татищев и Академия Наук // Вопросы истории. 1986. № 11. С. 39-51.