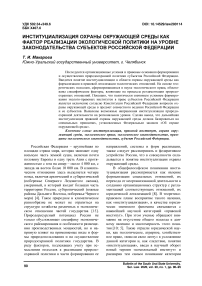Институциализация охраны окружающей среды как фактор реализации экологической политики на уровне законодательства субъектов Российской Федерации
Автор: Макарова Тамара Ивановна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории государства и права, конституционного права
Статья в выпуске: 1 т.20, 2020 года.
Бесплатный доступ
Исследуются организационные условия и правовые основания формирования и осуществления природоохранной политики субъектов Российской Федерации. Вводится понятие институциализации в области охраны окружающей среды как формализации и правовой легализации экологических отношений. На основе теоретических подходов, сформировавшихся в науке экологического права, обоснованы специфические факторы, влияющие на процессы регламентации природоохранных отношений. Показано, что политически значимым условием формирования эколого-правовых институтов в праве субъектов Российской Федерации является включение согласно Конституции Российской Федерации вопросов охраны окружающей среды в предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Выявлены возможные направления институализации природоохранной деятельности на региональном уровне. Сделан вывод, что дальнейшая институализация правовой охраны окружающей среды должна базироваться на специальных принципах, установленных Федеральным законом «Об охране окружающей среды».
Институализация, правовой институт, охрана окружающей среды, экологическое право, экологическое законодательство, принципы экологического законодательства, субъект российской федерации
Короткий адрес: https://sciup.org/147231517
IDR: 147231517 | УДК: 502.34+349.6 | DOI: 10.14529/law200114
Текст научной статьи Институциализация охраны окружающей среды как фактор реализации экологической политики на уровне законодательства субъектов Российской Федерации
Российская Федерация - крупнейшая по площади страна мира, которая занимает одну восьмую часть земной суши, включая почти половину Европы и одну треть Азии с протяженностью с юга на север - около 4 000 км, с запада на восток более 10 000 км. В климатическом отношении здесь выделяется четыре пояса, включая арктический и субарктический (побережье Северного Ледовитого океана), умеренный, в который входит большая часть территории России, субтропический (южные районы Дальнего Востока, побережье Черного моря) [4]. Такое природное и климатическое разнообразие не может не отразиться на структуре хозяйства различных в экономическом отношении частей государства [15]. Природоресурсный потенциал России не только обусловливает специфику экономического районирования и особенности размещения производственных мощностей, но и напрямую влияет на применяемые виды и формы природопользования и на осуществление природоохранной политики государства. В ряду факторов, подлежащих учету при осмыслении подходов к реализации природоохранной политики в части формирования ее направлений, системы и форм реализации, также следует рассматривать и федеративное устройство России, что в совокупности складывается в понятие институализации охраны окружающей среды.
В общефилософском понимании инсти-туциализация рассматривается как явление формализации социальных отношений, их перехода от неорганизованной деятельности к созданию организационных структур с регламентацией соответствующих отношений, их юридической легализацией [8]. В теоретикоправовом плане восприятие такого явления, как «институциализация», в качестве юридически значимого феномена связывается с важнейшей научной категорией «правовой институт». При этом ученые обращают внимание на отсутствие общего подхода к данному явлению и многомерность этого понятия [10; 5]. Такие отрасли юридической науки, как экологическое, аграрное, хозяйственное право, «внесли свою лепту» в усложнение данной категории и, как следствие, понятия «институализация», введя в научный оборот новый термин «комплексный институт» и расширив тем самым понимание категории
«правовой институт», а также выведя его содержательно за рамки одной отрасли, поскольку комплексными признаются институты, регулирующие однородные отношения, но включающие нормы нескольких отраслей права, например, применительно к экологическому праву – право собственности на компоненты природной среды, экологическое налогообложение, управление в области охраны окружающей среды и др. [1]. В силу этого наука экологического права традиционно обращает внимание на особенности устоявшихся и формирование новых институтов и объединяющих их правовых механизмов [6; 12].
Современный взгляд на упорядочение эколого-правовой сферы предлагает консолидировать природоохранные меры в правовой механизм охраны окружающей среды, отдельные элементы которого закреплены в праве в качестве эколого-правовых институтов [6], реализуемых в зависимости от поставленных задач как самостоятельные направления осуществления экологической функции государства [7, с. 166–263].
Полагаем, что политически значимым фактором, влияющим на формирование правовых механизмов охраны окружающей среды на региональном уровне, является включение в предмет совместного ведения Федерации и ее субъектов согласно ст. 72 Конституции Российской Федерации вопросов владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами, природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, особо охраняемых природных территорий. Связанными с обеспечением природоохранной политики и также относящимися к совместному ведению в соответствии с названной статьей Конституции РФ являются защита прав и свобод человека и гражданина, осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий; защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей; установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления и др. Важнейшим условием институциализации природоохранной сферы является и провозглашаемое ст. 72 Конституции РФ обеспечение соответствия ее нормам актов субъектов РФ, включая земельное, водное, лесное зако- нодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды.
На федеральном уровне ведущим природоохранным актом является Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон «Об охране окружающей среды»). Этому закону, называемому в науке экологического права головным или базовым, отводится консолидирующая роль. Такого рода законы приняты и действуют в Республиках Беларусь (№ 1982-XII от 26 ноября 1992 г., № 126-З от 17 июля 2002 г.), Украине (№ 1264-XII от 25 червеня 1991 р.), Молдове (№ 1515-XII от 16 июня 1993 г.). Свое мнение по вопросу о головном нормативном правовом акте экологического законодательства высказывали многие ученые-юристы, в том числе и автор статьи [11, с. 50–74]. В. В. Петров, характеризуя Закон РФ от 19 декабря 1991 г. «Об охране окружающей природной среды» с позиции его возможности возглавлять систему экологического законодательства, отмечал что «генеральная линия» этого закона состоит в обеспечении научно обоснованного сочетания экологических и экономических интересов «под приоритетом охраны здоровья человека и естественных прав человека на здоровую, чистую окружающую среду» [13, с. 84–88]. В настоящее время закон как головной акт выполняет возложенную на него функцию – своим правовым воздействием охватывать весь комплекс общественных отношений, возникающих по поводу окружающей среды. В этом законе как институты экологического права установлены все возможные правовые формы взаимодействия общества с окружающей средой и механизмы, посредством которых обеспечивается экологическая безопасность. Его главной целью в нашем понимании является отражение уровня правового воздействия на сферу, определяемую как «отношения в области окружающей среды».
Практика правового оформления экологических отношений пошла по следующему пути: в условиях становления системы эколого-правового регулирования признание того или иного инструмента охраны окружающей среды первоначально только на уровне нормы головного закона было достаточным основанием для последующей институализации и развития в правовой институт. Очевидно, именно это свойство Закона «Об охране окружающей среды», общее для правовых сис- тем разных государств, позволило М. М. Бри-нчуку определить его роль как кодификационную, а среди целей закона как «наиболее существенную» назвать «обеспечение экосистемного подхода к регулированию отношений в сфере взаимодействия общества и природы, важнейшим элементом которого является «учет синергического эффекта» [2, с. 69-70].
Основываясь на положениях ст. 72 Конституции Российской Федерации, Закон «Об охране окружающей среды» в ст. 5, 6 определяет полномочия федеральных органов государственной власти (ст. 5) и субъектов федерации в сфере охраны окружающей среды (ст. 6). К природоохранным полномочиям органов государственной власти субъектов РФ отнесены и такие, которые позволяют на уровне законодательства субъекта формировать самостоятельные природоохранные инструменты, дополняющие меры охраны окружающей среды, установленные федеральным законодательством, то есть осуществлять институализацию охраны окружающей среды, как в ее организационном, так и в правовом аспектах. Более того, согласно ст. 5.1 Закона «Об охране окружающей среды» возможна передача полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере экологических отношений органам исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
К основным полномочиям субъектов РФ в сфере охраны окружающей среды, самостоятельная институализация которых возможна на уровне законодательства субъекта РФ, относятся участие в реализации федеральной политики и определении основных направлений охраны окружающей среды на территории субъекта РФ; принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ, а также установление нормативов качества окружающей среды и осуществление контроля за их исполнением; участие в ведении государственного экологического мониторинга с правом формирования территориальных систем наблюдения как частей единой системы такого мониторинга; осуществление регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; организация системы экологического образования; ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору и ведение Красной книги субъекта Российской Федерации; образование особо охраняемых природных территорий регионального значения, управление и контроль такими территориями; организация проведения экономической оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, осуществления экологической паспортизации территории.
Исходя из подхода, закрепленного в Законе «Об охране окружающей среды», субъекты РФ демонстрируют свое видение институализации природоохранной политики. И здесь налицо серьезные различия в правовом обеспечении охраны окружающей среды, например, республиками Татарстан, Башкортостан и городом Санкт-Петербургом приняты экологические кодексы (соответственно от 15 января 2009 г. № 5-ЗРТ; от 28 октября 1992 г. № ВС-13/28; от 29 июня 2016 г. № ВС-13/28). В ряде субъектов действуют законы об охране окружающей среды (в Краснодарском крае от 31 декабря 2003 г. № 657-КЗ; в Тюменской области - от 28 декабря 2004 г. № 302, некоторыми субъектами, в том числе и Челябинской областью, приняты законы лишь по отдельным направлениям природоохранной деятельности (закон Челябинской области от 25 апреля 2002 г. № 81-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области»).
Ученые признают, что сложность разработки общего нормативного правового акта в области охраны окружающей среды обусловлена особенностями, имманентно присущими самой отрасли экологического законодательства, главной из которых, безусловно, является комплексный характер эколого-правового регулирования. В теории в качестве предмета этой отрасли признаются общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия общества с окружающей средой по поводу использования и охраны природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности человека [13, с. 26–28]. Названным общественным отношениям свойственен как экономический (связанный с использованием природных ресур- сов в хозяйственной деятельности), так и природоохранный (обусловленный потребностью предупреждения вредного воздействия, сохранения и восстановления природной среды от последствий деятельности человека) характер. Это в свою очередь отражается на методе правового регулирования, специфику которого составляет сочетание императивного и диспозитивного начал, что в особенности стало проявляться ввиду включения природных ресурсов (земельных участков, участков лесного фонда, водных объектов, месторождений полезных ископаемых) в гражданский оборот [14, с. 20–21]. Еще одной особенностью правового регулирования отношений в области окружающей среды является то, что исторически экологическое право выросло из общности природоресурсных отраслей (земельного, горного, водного, лесного, фаунистического) и объективно в силу возрастания экологического фактора в жизни общества заняло приоритетную позицию в сравнении с этими отраслями, хотя из экономических соображений общество зачастую умаляет и даже игнорирует эту приоритетную роль экологического права. Мы также обращаем внимание на тот факт, что часть норм, имеющих природоохранное содержание, включена в нормативные правовые акты иных отраслей – административного, гражданского, финансового, налогового права. Но именно эти обстоятельства обусловливают необходимость принятия на уровне субъекта РФ базового нормативного правового акта, предмет которого составляют отношения в области охраны окружающей среды в целом с урегулированием в нем природоохранных мер, не получивших достаточного правового оформления в федеральном законе. Полагаем, что предпочтительной формой такого нормативного правового акта является закон, а не кодекс, поскольку кодификация как полное и системное упорядочение определенной области общественных отношений для такой диалектично противоречивой системы, каковой является сфера взаимодействия человека (общества) с его средой обитания, крайне сложная задача. Закон «Об охране окружающей среды» для субъекта РФ с этой позиции представляет собой своего рода дискретную систему, элементы (правовые институты) которой взаимодействуют свободно, составляя вместе целостный правовой природоохранный механизм, где не исключены включение (исключение) отдель- ных элементов с возможным их восстановлением или заменой по мере объективной потребности в развитии экологических отношений. Полагаем, что в качестве базового элемента, вокруг которого на уровне субъекта РФ возможна консолидация природоохранных норм, а также правового основания для выработки единого взгляда на процессы институализации природоохранной деятельности, следует принять специальные принципы охраны окружающей среды, изложенные в ст. 3 Закона «Об охране окружающей среды», среди которых соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; научнообоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства; ответственность органов государственной власти Российской Федерации, ее субъектов, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях; презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и многие другие.
Список литературы Институциализация охраны окружающей среды как фактор реализации экологической политики на уровне законодательства субъектов Российской Федерации
- Бринчук, М. М. Комплексность как принцип экологического права / М. М. Бринчук // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь. - Минск: Право и экономика, 2009. - Вып. 4. - С. 376-392.
- Бринчук, М. М. О головном акте экологического законодательства / М. М. Бринчук // Государство и право. - 2001. - № 11. - С. 64-75.
- Бринчук, М. М. Экологическое право / М. М. Бринчук. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. - 624 с.
- География России - положение, площадь, границы // Cтрановедение России. URL: https://ruskerealie.zcu.cz/r1-1A.php.
- Ерзнкян, Б. А. Исследование институциональных понятий и характерных особенностей формальных и неформальных институтов / Б. А. Ерзнкян // Вестник Университета (Гос. ун-т управления). - 2012. - № 20. - С. 76-83.
- Институты экологического права / С. А. Боголюбов и др. - М.: Эксмо, 2010. - 480 с.
- Карпович, Н. А. Экологическая функция государства: в 2 ч. / Н. А. Карпович. - Минск: РИВШ, 2011. - Ч. 2. - 386 с.
- Кравченко, И. И. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / И. И. Кравченко. - М.: Мысль, 2010. - Т. 1. - 744 с.
- Краснова, М. В. Предмет экологического права: взгляд с позиции юридической науки и законодательства Беларуси, Украины и России / М. В. Краснова, Т. И. Макарова // Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Юридичнi науки. - 2014. - Вип. 1 (99). - С. 9-14.
- Курочкин, А. В. Концепт "правовая институционализация" и его содержание / А. В. Курочкин // Актуальные проблемы российской права. - 2016. - № 3 (64). - С. 39-47.
- Макарова, Т. И. Эколого-правовой статус граждан Республики Беларусь / Т. И. Макарова. - Минск: БГУ, 2004. - 231 с.
- Макарова, Т. И. Правовые механизмы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности / Т. И. Макарова. - Минск: БГУ, 2016. - 191 с.
- Петров, В. В. Экологическое право России / В. В. Петров. - М.: БЕК, 1995. - 557 с.
- Экологическое право / С. А. Балашенко, Т. И. Макарова, В. Е. Лизгаро. - Минск: Вышэйшая школа, 2016. - 383 с.
- Экономическая география России / под ред. В. И. Видяпина. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 568 с.