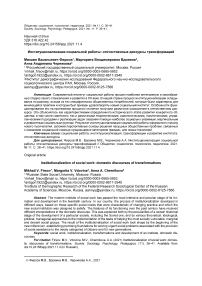Институционализация социальной работы: отечественные дискурсы трансформаций
Автор: Фирсов Михаил Васильевич, Вдовина Маргарита Владимировна, Черникова Анна Андреевна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 11, 2021 года.
Бесплатный доступ
Современный институт социальной работы прошел наиболее интенсивную и своеобразную стадию своего становления и развития в ХХ веке. В нашей стране процесс институционализации складывался по-разному, исходя из тех специфических общественных потребностей, которые были характерны для меняющейся практики и которые был призван удовлетворять новый социальный институт. Особенности функционирования его на протяжении прошлого столетия получали различное осмысление в отечественном дискурсе. Это объяснялось как характеристиками определенного исторического этапа развития конкретного общества, в том числе советского, так и различными теоретическими, идеологическими, политическими, управленческими подходами к реализации задач оказания помощи наиболее социально уязвимым, маргинальным и девиантным социальным группам. Результат институционализации социальной работы оформился к началу нового тысячелетия, заложив перспективные основы решения насущных общественных проблем, связанных с оказанием социальной помощи нуждающимся категориям граждан, для новых поколений.
Социальная работа, институционализация, трансформации и развитие института, отечественные дискурсы
Короткий адрес: https://sciup.org/149138879
IDR: 149138879 | УДК: 316.422.42 | DOI: 10.24158/spp.2021.11.4
Текст научной статьи Институционализация социальной работы: отечественные дискурсы трансформаций
,
Социальная работа как профессиональная деятельность, область познания и направление специального образования в России в ХХ веке прошла сложный и противоречивый путь развития от идеи к практике, от локальной поддержки пожилых людей и инвалидов к профессиональной помощи различным группам населения.
Как известно, институционализация является процессом, в ходе которого социальные практики фиксируются, делаются довольно систематическими и продолжительными. Упорядочивание их подчеркивает конкретно-исторический характер социальных институтов, их изменчивость и динамику развития. Институционализация представляет собой ответ на возрастающие потребности общества в выполнении определенных социальных функций особой структурой.
Теория и практика социальной работы в России оформлялись на социопатогенной платформе помощи 1.0 в логике цивилизационных процессов родового, а затем реципрокного альтруизма, и в ХХ веке их трансформация осуществлялась в условиях последовательно сменявших друг друга исторических ситуаций деимпериализации, десоветизации и распространения процессов демократизации, что обеспечило национальное и культурно-историческое своеобразие отечественной модели социальной помощи.
К 1920-м годам социальная работа как практическая деятельность и направление образования в глобальном масштабе охватывала уже 32 страны мира на Западе, Востоке и даже в Африке. В них была организована подготовка социальных работников, но наибольшее количество учебных заведений, выпускавших специалистов по работе с нуждающимися в социальной помощи слоями населения, было в США (53 школы) и Германии (42 школы) (Salomon, 1937).
Однако в Советской России, где шли революционные социальные изменения, данный вид деятельности в системе образования не был представлен. В центре внимания правящих партийных элит советского государства того времени в качестве объекта помощи были не только «пролетарские массы», как в европейских странах, но и беднейшее крестьянство, инвалиды войны, а также «семьи красноармейцев», которые в основной своей массе тоже были представителями крестьянского сословия.
Индивидуальные методы социальной работы тоже не могли быть доминирующими в молодой Советской России, и не только по идеологическим соображениям. Страна столкнулась с массовыми явлениями маргинализации взрослых представителей рабочего класса, крестьянства и детей, оказавшихся без попечения родителей в результате длительных военных действий, сирот. В первые годы существования республики советскому правительству приходилось решать проблемы не только «многоукладной экономики», но и «многоукладной маргинализации», которая через исторические формы социальной патологии среди «пролетарских масс» воспроизводила новые формы общественных болезней. Актуальны были проблемы, связанные с противодействием распространения явления маргинализации населения через «институты профессионального нищенства», с чем уже не сталкивалась Западная Европа, а тем более США.
Система помощи в Советской России получила в «наследство» от предшествующей имперской полицейской модели помощи сотни тысяч «самодеятельных и несамодеятельных» нищих, которые, по переписи 1926 г., официально были зафиксированы в РСФСР, УССР, БССР и в своей совокупности составляли 162 815 человек. Как показали социологические исследования тех лет, 34,4 % всех этих людей входили в группы «нищенства профессионалов» (Герцензон, 1995).
Для сравнения можно отметить, что во время переписи 1897 г., предпринятой еще в Российской империи, было выявлено 362 448 бродяг, странников, богомольцев и других, подобных им, граждан (Мещанинов, 1995: 52). Анализируя эти сведения, можно констатировать «живучесть» данной социальной патологии, несмотря на общее снижение ее масштабов.
Другой массовой социальной болезнью постреволюционной России стала проституция. По данным исследований тех лет, например, только в Москве в 1924 г. официально было выявлено 623 проститутки, причем 60 % из них были «пролетарского происхождения» (Железнов, 1995: 152).
Беспризорность и крайняя нужда толкала малолетних детей и подростков на противоправные действия, что также приводило к распространению социальных патологий. Малолетние преступники из среды «земледельцев» составляли 22,3 % от всей массы несовершеннолетних маргиналов, из среды фабричных рабочих, ремесленников, чернорабочих – 43,9 % (Куфаев, 1925: 29), причем для детей было характерно многократное совершение преступлений различной направленности.
Сказанное свидетельствует о том, что задачи, которые стояли перед отечественными профессионалами, были принципиально отличными от западных: не «обучение» пролетарских масс «умеренному потреблению» и адаптации к средовым социальным условиям через технологии индивидуальной помощи, а противодействие маргинализации и воспроизводству новых слоев профессиональных нищих и иных девиантов в условиях модернизации государственности через различные технологии трудовой помощи.
В этой связи нищенству, проституции, детской преступности как массовым явлениям должны были противостоять методы не индивидуальной, а коллективной помощи, что и было реализовано на протяжении последующих лет.
Как и в западных странах, решение социальных проблем новой России реализовывалось через специально организованные коррекционные институты, социальные программы, законодательную практику. При губернских отделах социального обеспечения были организованы распределительные пункты, в задачи которых входило отделение «нетрудоспособных» от «злонамеренных тунеядцев» – общей массы девиантов, с тем чтобы сформировать социальную группу индивидов, подлежащих специальному исправлению трудом1. Нетрудоспособные же определялись в определенные социальные институты: дети направлялись в детские дома, женщины с грудными детьми с улиц – в дома матери и ребенка, старики и увечные – в «убежища».
Первые декреты советской власти были направлены на упразднение учреждений общественного призрения, существовавших в Российской империи («Постановление об упразднении благотворительных учреждений и обществ помощи инвалидам и о передачи их дел и денежных сумм Исполнительному комитету увечных воинов»; «Постановление об упразднении Совета детских приютов Ведомства учреждений императрицы Марии, Постоянной комиссии Совета, Хозяйственного комитета, Комитета для сбора пожертвований и Комитета для изыскания средств на устройство слабых здоровьем детей» и др.)2. По сути дела, их финансовые и материальные активы перешли в руки новой власти, которая исходила из собственных политических и экономических интересов и решала свои социально-политические задачи.
Политика перепрофилирования учреждений под социальные нужды новой власти вылилась в то, что борьба с маргинальными слоями населения велась в новых институциональных формах, таких как «трудовые коммуны для профессиональных нищих», «специальные лечебновоспитательные учреждения для проституток», «трудовые коммуны для здоровых проституток», «где они должны были не только трудиться, а в отдельных случаях лечиться, но и самое главное – перевоспитываться»3.
Модернизация государственного строя потребовала изменить политику и направленность стратегий социальной помощи и поддержки. Можно сказать, что в данный период технологии социального обеспечения населения имели классовую направленность, а сама система социального обеспечения была ориентирована на решение политических задач укрепления нового строя.
Следовательно, западные модели социальной работы не могли стать «инструментом» помощи в Советской России не только по идеологическим соображениям, но и из-за специфики социально-исторических условий массового обездоленного большинства, а также тех задач по реформированию общества, которые перед собой ставило руководство страны. Однако было бы некорректно, с нашей точки зрения, говорить, что мировой опыт практики социальной работы не был востребован и «инкорпорирован» в систему социального обеспечения Советской России, которая оставалась ведущей моделью помощи населению вплоть до 90-х годов ХХ столетия.
Отдельные частные элементы западной практики социальной работы можно наблюдать в деятельности инспекторов труда, которые не только защищали интересы работающих на производстве, но и «имели право свободного доступа … к отдыху и жилью трудящихся и их семей». В таких подходах прослеживаются «общемировые тренды» работы с населением через технологии диагностики случая и профилактической работы, направленные на противодействие маргинализации трудящихся (Белошапкина, 1918: 37). Это то, чем занимались социальные работники, например, в Британии (Salomon, 1937) и в США (Richmond, 1917), что было характерно для деятельности европейских и американских «инспекторов здоровья». Более того, можно сказать, что работа инспекторов в Советской России строилась на основе идеологем и технологий социальной гигиены, широко распространенных в мировом сообществе в рассматриваемый исторический период, а не только в Западной Европе (Hollis, 1981: 12).
Шефство как форма помощи и общественного контроля в дальнейшем трансформировалось в «общественную работу», которая станет неотъемлемой частью социальной жизни советского человека в последующие десятилетия (Бланкфельд, 1933; Дьяков, 1926; Казанский, 1927; Соскин, 1958).
Можно утверждать, что в рамках социального обеспечения отдельные технологии социальной работы на уровне конкретного случая и коллективной (средовой) работы существовали имплицитно, без номинативного обозначения предметной сущности деятельности.
В послевоенные и последующие годы в Советском Союзе постепенно сформировалась отлаженная государственная система социального обеспечения (прежде всего, в виде выплат пенсий по старости, инвалидности, утрате кормильца или за выслугу лет, назначения пособий по нетрудоспособности и др.). Она охватила широкие слои населения старшего поколения, инвалидов (нетрудоспособных вследствие полученных на войне ранений или на фоне общего или профессионального заболевания, трудового увечья; детей-инвалидов и инвалидов с детства). Социальное обеспечение граждан выражалось не только в выплате пенсий и пособий, но также и в форме проживания на полном государственном обеспечении в учреждениях для пожилых людей и инвалидов, детей-сирот и детей-инвалидов1.
Негосударственные формы благотворительной и церковной помощи в советском государстве, в отличие от дореволюционной России, не практиковались (Инков, 2006: 193–195).
Обращение к теории и практике социальной работы на новом этапе было реализовано в СССР лишь в середине 1980-х годов, что было обусловлено кризисными явлениями в системе социального обеспечения населения, прежде всего таких категорий граждан, как пожилые люди и инвалиды.
Необходимость введения в устоявшуюся практику социального обеспечения специальных акторов в виде работников, предоставляющих помощь гражданам на дому, была порождена рядом оснований, среди которых основными выступали увеличение доли нетрудоспособного населения и инвалидов, уменьшение темпов строительства специальных учреждений для пенсионеров, изношенность социальных фондов, не позволяющих нуждающимся престарелым гражданам жить в социальных учреждениях, практика «очередности» помещения пожилых людей и инвалидов в специализированные учреждения.
В середине 80-х годов XX века были приняты два значительных правительственных документа. Один из них был сосредоточен на улучшении материального положения пенсионеров и инвалидов и предоставлении им институциональной помощи2, а другой – нацелен на реализацию мер оперативного характера в решении накопившихся проблем пожилых людей и инвалидов.
В 1985 г. по предложению Совета министров Эстонской ССР было решено для поддержки одиноких нетрудоспособных граждан в порядке эксперимента сформировать отделения социальной помощи на дому. Обеспечить поддержку этим людям должны были социальные работники, институт которых тоже вводился в СССР. Предполагалось, что эксперимент будет реализован в двух – трех территориальных единицах страны, однако данная практика была распространена исключительно в РСФСР3.
Оформившиеся социально-экономические негативные тенденции вызвали необходимость принятия экстраординарных мер в сфере социального обеспечения населения. В этих условиях был осуществлен переход к политике перераспределения услуг и полномочий. Необходимые услуги были «приближены» собственно к потребителю; социальная помощь, осуществляемая на дому, позволяла задействовать фонды потребителя, а не государства.
Политика перераспределения управленческих полномочий осуществлялась за счет дополнительной нагрузки на дома-интернаты, в которых должны были быть открыты отделения социальной помощи. По решению исполкомов Совета народных депутатов, аналогичные структуры могли создаваться «на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства» и в других организациях.
Однако вследствие отсутствия четкости в проведении политики данный вид помощи развивался медленно, поэтому, как отмечено в официальных источниках, к 1989 г. было открыто всего 32 территориальных центра, с 3 тыс. отделениями социальной помощи, где на обслуживание было принято 292 тыс. граждан, что составляло только 60 % от всех нуждающихся в помощи4. Пожилые обладали множественными заболеваниями, часто являлись инвалидами; так, среди респондентов, принявших участие в исследовании ЦИЭТИН, граждане, имеющие II группу инвалидности, составили 88,6 % (Дементьева и др., 1994).
Следовательно, «содействие в организации медицинской помощи» было очень востребованным направлением удовлетворения потребностей получателей социальных услуг, что позволяет судить о вырабатывании главным образом социально-медицинских дискурсов социальной помощи, однако требовало определенности в алгоритмах реализации.
Говоря о технологиях помощи, сложившихся за десятилетия советской практики, можно заметить, что «институт шефства» понемногу становился менее актуальным для пожилых и инвалидов – как вид поддержки он считался значимым только для 17 % респондентов (Дементьева и др., 1994).
Решение о создании отделений социальной помощи привело к необходимости привлечения кадров в эти структуры. И здесь были выбраны две стратегии. Первая была детерминирована социально-медицинской помощью, которую по месту жительства пожилым и инвалидам должны были оказывать сестры милосердия системы Красного Креста и Красного Полумесяца; к этой деятельности были привлечены 6 тыс. человек (Дементьева и др., 1994).
Вторая стратегия была связана с наймом различных категорий граждан. В «ряды» социальных работников могли быть привлечены: рабочие, служащие, в том числе по совместительству, пенсионеры, женщины, занятые в домашнем хозяйстве, студенты вузов, учащиеся средних специальных заведений (достигшие 18 лет), прошедшие соответствующий инструктаж1.
К 1991 г. 48 тыс. социальных работников в 4648 отделениях социальных помощи предоставляли помощь 426 тыс. пожилым и инвалидам (Дементьева и др., 1994). Такие действия в определенной мере сняли напряжение, но не ликвидировали кризисные явления в социальной сфере.
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что институционализация социальной работы в предыдущее столетие сопровождалась формированием различных статусно-ролевых социальных групп из числа традиционных и новых объектов помощи и ее субъектов, типизации их ролевого функционирования, формирования и развития соответствующих профессиональных ценностей и норм (формальных и неформальных), учреждений для осуществления социальной помощи. Отечественные и зарубежные дискурсы институциональных трансформаций варьировались в зависимости от специфики конкретного общества, исторического этапа и соответствующих путей и задач его развития, тех основных социальных потребностей, которые был призван удовлетворять институт социальной работы на конкретном историческом этапе. Сложившийся к исходу XX века новый социальный институт позволил решить ряд насущных общественных проблем и заложил основы для развития современной социальной помощи нуждающимся людям.
Список литературы Институционализация социальной работы: отечественные дискурсы трансформаций
- Белошапкина Д. Попечительство о трудовой помощи в 1916 г. Хроника. Трудовая помощь. 1918. № 6. C. 37-52.
- Бланкфельд Р.И. Общественная работа в ФЗС. Свердловск ; М., 1933. 38 с.
- Герцензон А. Нищенство и борьба с ним в условиях переходного периода // Антология социальной работы : в 5 т. М., 1995. Т. 2. Феноменология социальной патологии. С. 68-90.
- Дементьева Н., Шаталова Е., Соболь А. Организационно-методические аспекты деятельности социального работника // Антология социальной работы : 5 т. М., 1994. Т. 1. История социальной помощи С. 252-255.
- Дьяков Я.Б. Шефство над деревней и комсомол. М. ; Л., 1926. 60 с.
- Железнов Л. С улицы на производство // Антология социальной работы: в 5 т. М., 1995. Т. 2. Феноменология социальной патологии. С. 152-155.
- Инков А.А. К особенностям формирования государственного социального обеспечения в России после 1917 года // История социальной политики и социальной работы: состояние и проблемы научной разработки и преподавания в вузе : материалы межвузовской научной конференции. М., 2006. С. 191-195.
- Казанский А.М. Общественная работа деревенской школы. М., 1927. 56 с.
- Куфаев В.И. Юные правонарушители. М., 1925. 356 с.
- Мещанинов И. О нищенстве в России и способах борьбы с этим явлением // Антология социальной работы : в 5 т. М., 1995. Т. 2. Феноменология социальной патологии. С. 52-68.
- Соскин В.Л. Коммунисты Сибири - зачинатели шефства города над деревней. Новосибирск, 1958. 51 с.
- Hollis F. Casework, a Psychosocial Therapy. N. Y., 1981. 534 р.
- Richmond E.M. Social Diagnosis. N. Y., 1917. 520 р.
- Salomon A. Education for Social Work: A Sociological Interpretation Based on an International Survey. Leipzig, 1937. 265 р.